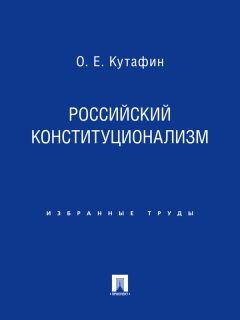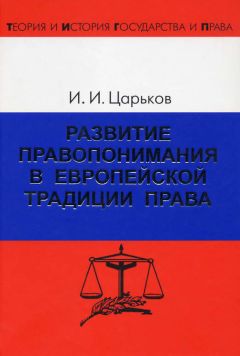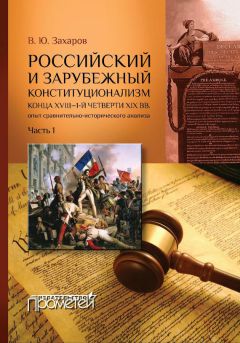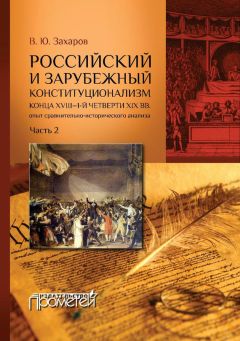Игорь Кравец - Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления
Принцип идеологического плюрализма. Принципиально иной подход закреплен в Конституции РФ 1993 года. В части 1 ст. 13 Конституция признает принцип идеологического многообразия в качестве основы конституционного строя. В российском конституционном праве развернулась дискуссия по вопросу о том, какие достоинства и недостатки несет с собой данный конституционный принцип. Спорные мнения высказываются и по вопросу о мотивах специального конституционного закрепления принципа идеологического многообразия.
Так, по мнению В.О. Лучина, «стремление к деидеологизации Конституции, отчетливо проявившееся в процессе подготовки ее проекта, было продиктовано в значительной степени также идеологическими соображениями – под предлогом преодоления монополии социалистической идеологии обеспечить переход к идеологии, основанной на принципиально иных ценностях». Идеологический плюрализм, считает он, – удобное прикрытие «неудавшейся попытки запретить коммунистическое движение», после которой «откровенный антикоммунизм не удалось сделать конституционным знаменем “переходного” периода»[256].
Председатель Конституционного Суда РФ М.В. Баглай считает, что государство не должно вмешиваться в идеологическую полемику, разрешать теоретические споры, так как в свободе научной мысли заключается важная гарантия существования гражданского общества. Именно в этом – главная причина признания Конституцией принципа идеологического многообразия[257].
На наш взгляд, конституционные положения об идеологическом многообразии необходимо воспринимать в контексте всей конституционной истории России в XX веке. Вряд ли будет обоснованным учет только политических событий, непосредственно предшествовавших разработке и принятию новой Конституции России. В странах, давно признавших свободу слова и мнений, отсутствует потребность специального закрепления принципа идеологического многообразия. Российская специфика правового и политического развития в течение длительного времени в условиях идеологической монополии потребовала создания особых конституционных положений, гарантирующих идеологический плюрализм.
В современных конституционных дебатах об идеологическом многообразии проявились две позиции по проблеме соотношения конституции, конституционного строя и идеологии. Первая позиция, представленная в работах государствоведов и юристов, в целом позитивно оценивает конституционное закрепление принципа политического многообразия и видит отличительную особенность конституционного строя и конституции в том, что они имеют надидеологическую природу[258]. Само закрепление этого принципа должно было обеспечить деидеологизацию конституционного права. Процесс деидеологизации значительно повлиял на выработку нового научного аппарата конституционного права, новой терминосистемы. Новые конституционные идеи были положены в основу структуры конституции, применялись для разработки понятия и видов основ конституционного строя, что в целом позитивно сказалось на формировании новой теории конституционного права.
Вторая позиция заключается в критическом подходе к закреплению принципа идеологического многообразия или к практике его реализации. Этот принцип, по мнению критиков, направлен против традиционных ценностей населения, сформировавшихся в советский период, против возможности существования общенациональной идеи или государственной идеологии[259].
На наш взгляд, требуется более сдержанное отношение к конституционной формуле о недопустимости установления какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной. Эта формула порой «трактуется неверно, как запрет на государственную идеологию вообще»[260]. Между тем идеями гуманизма, демократии, правового и социального государства проникнуты нормы Конституции, которые нельзя недооценивать. Поэтому необходимо конституционное воспитание граждан, в том числе при участии государственных органов и образовательных учреждений.
Конституционный принцип идеологического многообразия имеет несколько содержательных аспектов.
1. Данный принцип базируется на обширном социальном содержании человеческой деятельности. Многообразие в сфере идеологии предполагает право каждого человека, группы людей, их объединений свободно развивать свои воззрения и научные теории идеологического характера; распространять и защищать их с помощью всех существующих технических средств; активно работать также над практическим осуществлением своих идей путем разработки программных документов, законопроектов, представления их на рассмотрение общественных и государственных органов, участия в поддержке и реализации уже принятых этими органами предложений и т. д.[261]
2. Юридическое содержание этого принципа тесным образом связано с важнейшими субъективными правами и свободами личности, через которые он и реализуется, образуя необходимый фундамент правовой жизни человека. К таким субъективным правам и свободам относятся: свобода совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции), свобода выражения мнений и убеждений, свобода информации (ст. 29 Конституции), право определять и указывать свою национальную принадлежность, право на пользование своим родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 26 Конституции).
3. Устанавливается дополнительная конституционная гарантия против ликвидации на государственном уровне идеологического многообразия. Согласно ч. 2 ст. 13 Конституции РФ «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Данное требование – это конституционная реакция на советский опыт идеологического монизма. Тем не менее, оно не может восприниматься вне контекста других конституционных положений и особенно конституционных провозглашений о ценности прав человека. По мнению В.А. Четвернина, требование ч. 2 ст. 13 является абсолютным для государственного регулирования отношений гражданского общества, но не для государственной службы в конституционном государстве, провозглашающем права человека высшей ценностью. Поэтому идеология естественных и неотчуждаемых прав человека должна быть индикатором допуска граждан к государственной службе[262]. На наш взгляд, сфера отношений гражданского общества также базируется на ценностях прав человека, поэтому определенные ограничения идеологического многообразия устанавливаются и существуют по отношению как к обществу, так и к государству.
Конституционные положения ст. 2 и 18 послужили основой для нового юридического «сплава» – принципа служебного поведения государственных служащих. Государственный служащий призван «исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих». Это положение стало одним из общих принципов служебного поведения государственных служащих после принятия Указа Президента от 12 августа 2002 года[263]. В данном Указе также содержатся еще два принципа служебного поведения, которые имеют непосредственное отношение к содержанию конституционного регулирования идеологического плюрализма. Так, государственный служащий призван не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимым от влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и организаций. Помимо этого, он призван проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. Один принцип касается политической нейтральности, о чем будет сказано в главе 3 (параграф о политическом многообразии).
4. Демократические ценности и права человека должны защищаться государством и конституцией. Абсолютная реализация принципа идеологического плюрализма может входить в противоречие с потребностями защиты демократии, прав и свобод личности. Такое происходит в случае распространения фашистской, национал-социалистической или иной идеологии террора, направленной против идеологии прав человека. Конституция РФ закрепляет содержательные ограничения идеологического многообразия в ч. 2 ст. 29: не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. Помимо этого запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Хотя эти ограничения содержатся в статье, регулирующей свободу мысли и слова, они непосредственно касаются проявлений идеологического многообразия.