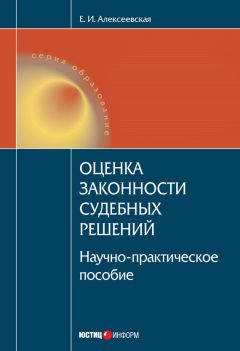Андрей Синявский - Мое последнее слово. Речи подсудимых на судебных процессах 1966 - 1974}
Я не стал бы ссылаться на статью Кедриной, если бы вся система аргументации обвинения не лежала бы в той же плоскости. Ну, как доказать антисоветскую сущность Синявского и Даниэля? Тут применялось несколько приемов. Самый простой, лобовой прием — это приписать мысли героя автору; тут можно далеко зайти. Напрасно Синявский считает, что только он объявлен антисемитом, — я, Даниэль Юлий Маркович, еврей, — тоже антисемит. Все при помощи этого простого приема: у меня все тот же старичок-официант говорит что-то о евреях, и вот в деле имеется такой отзыв: «Николай Аржак — законченный, убежденный антисемит». Может быть, это какой-нибудь неискушенный рецензент пишет? Нет, это пишет в своем отзыве академик Юдин…
Есть еще и такой прием: изоляция отрывка из текста. Надо выдернуть несколько фраз, купюрчики сделать — и доказывать все, что угодно. Самый убедительный пример этого приема — как «Говорит Москва» сделали призывом к террору.
Тут все время ссылаются на эмигранта Филиппова: вот кто правильно оценил ваши произведения (вот кто, оказывается, высший критерий истины для государственного обвинителя). Но даже Филиппов не сумел воспользоваться такой возможностью. Казалось бы, чего уж лучше; если там есть призыв к террору, то уж Филиппов сказал бы: вот как подпольные советские писатели призывают к убийствам, к расправе. Но даже Филиппов не смог этого сказать.
Еще один прием: подмена обвинения героя вымышленным обвинением советской власти — то есть, автор говорит какие-то слова, разоблачая героя, — а обвинение считает, что это про советскую власть говорится. Вот пример. Обвинительное заключение построено в большей части на отзыве Главлита, так вот в отзыве Главлита говорится буквально следующее: «Автор считает возможным проведение в нашей стране Дня педераста». А на самом деле речь идет о приспособленце, цинике, художнике Чупрове, что он хоть про День педераста станет плакаты писать, лишь бы заработать, это про него главный герой говорит. Кого он тут осуждает — советскую власть или, может, другого героя?
В обвинительном заключении, в отзыве Главлита, в речах обвинителей прозвучали одни и те же цитаты из повести «Искупление». А что это за цитаты? «Тюрьмы внутри нас» — это выкрики героя повести Вольского. Да, это сильное обвинение по адресу всех людей. И я вовсе не старался, как тут говорил Васильев, изобразить дело так, будто я занимаюсь изящной словесностью; я не пытаюсь уйти от политического содержания моих произведений. В этих словах Вольского есть политическое содержание — но что следует за этими выкриками? Кто это кричит? Это кричит безумный человек, он сошел с ума. Он вскоре оказывается в психиатрической больнице.
Еще один, тоже очень простой, но очень сильный прием доказательства антисоветской сущности: выдумать идею за автора и сказать, что в произведении есть антисоветские выпады, когда их там нет. Вот рассказ «Руки». Мой защитник Кисешинский аргументирование доказывал, что в этом рассказе нет антисоветской идеи, как его ни толкуй. Возражая ему, Кедрина сказала: «Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела». Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности. Это был ответ на выступление защитника по поводу рассказа «Руки» — и ни слова больше. Если говорить об этом рассказе, то я прошу вас всех. Вот сейчас закончится судебное заседание, и вы все пойдете домой. Подойдите к своим книжным полкам, возьмите книгу, раскройте ее и прочтите про то, как красный командир был направлен в команду, которая проводила расстрелы. Он почернел и высох на этой работе, он возвращается домой, шатаясь, как пьяный. И расстреливает он не священников, а хлеборобов, даже там есть такая деталь, я ее хорошо помню: он вспоминает руку расстрелянного, заскорузлую, как конское копыто. Ему очень плохо, очень трудно и очень страшно, он даже оказывается несостоятельным как мужчина, когда остается с любимой женщиной. Ну, так как же, подходит этот отрывок под те формулировки, которые звучат в обвинительном заключении, — что классовая политика репрессий против советского народа и нравственно и физически калечит людей…
Судья: Что за чушь! Какая классовая политика репрессий?
Даниэль: Я цитирую обвинительное заключение, вот тут написано (читает): «…якобы классовая политика репрессий против советского народа». Так написано в обвинительном заключении.
Я сейчас, как вы, вероятно, догадались, пересказал одну главку из «Тихого Дона». Действующие лица — красный командир Бунчук и Анна.
Как еще нас обвиняют? Критика определенного периода выдается за критику всей эпохи, критика пяти лет — за критику пятидесяти лет, если речь идет даже о двух-трех годах, то говорят, что это про все время.
Обвинители стараются не замечать, что вся статья Синявского обращена в прошлое, что там даже все глаголы стоят в прошедшем времени: «мы убивали» — не «убиваем», а — «убивали». И в моих произведениях, кроме рассказа «Руки», — о 50-х годах, о времени, когда была реальна угроза реставрации культа личности. Я говорил об этом все время, это видно и из произведений, — не слышат.
И, наконец, еще один прием — подмена адреса критики: несогласие с отдельными явлениями выдается за несогласие со всем строем, с системой.
Вот вкратце методы и приемы «доказательства» нашей вины. Может быть, они не были бы такими для нас страшными, если бы нас слушали. Но правильно сказал Синявский — откуда мы взялись, вурдалаки, кровопийцы, не с неба-де упали? И тут обвинение переходит к рассказу о том, какие мы подонки. Пускаются в ход странные приемы: обвинитель Васильев говорит, что за тридцать сребреников, пеленки, нейлоновые рубашки мы продались, что я бросил честный учительский труд и ходил с протянутой рукой по редакциям, вымаливая переводы. Я мог бы попросить свою жену, и она принесла бы ворох писем от поэтов, которые просят меня переводить их стихи. Не на легкие переводческие хлеба я ушел от обеспеченного преподавательского заработка, а потому, что с детства мечтал о поэтической работе. Первый перевод я сделал, когда мне было 12 лет. Какие это легкие хлеба, любой переводчик знает. Я оставил обеспеченную жизнь, обменял ее на необеспеченную. Я относился к этому как к делу своей жизни, никогда не халтурил. Среди моих переводов были, может быть, и плохие, и посредственные, но это от неумения, а не небрежности.
Странно, что в той области, где юрист должен быть безупречен, государственный обвинитель не признает фактов. Сначала я думал, что он оговорился, когда сказал, что мы сознавали характер своих произведений: в 1962-м году была радиопередача, а мы после этого послали за границу «Говорит Москва», «Любимов». Позвольте, а что передавали? Ведь как раз «Говорит Москва» и передавали по радио — что же, я во второй раз послал эту повесть, что ли? Я подумал, что это оговорка. Но дальше снова то же: ссылаясь на статью Ртормкова, государственный обвинитель говорит — они были предупреждены, они знали оценку — и послали «Любимов» и «Человек из МИНАПа». Когда опубликована статья Рюрикова? В 1962-м году. Когда отправлены рукописи? В 1961-м году. Оговорки? Нет. Это государственный обвинитель добавляет штришок к моей личности, злобной, антисоветской. Любое наше высказывание, самое невинное, такое, какое мог бы произнести любой из сидящих здесь, перетолковывается: в «Говорит Москва» речь идет о передовице в «Известиях» — «а-а, вы издеваетесь над газетой „Известия“»? Не над газетой, а над газетными штампами, над суконньш языком; — мне злорадно говорят: «Наконец-то вы заговорили своим голосом!» Неужели сказать о газетных штампах, о суконном газетном языке — антисоветчина? Мне это непонятно. Хотя нет, в общем-то, все понятно…
Ничто здесь не принимается во внимание, ни отзывы литературоведов, ни показания свидетелей. Вот говорят, Синявский антисемит; но ни у кого не возник вопрос, откуда тогда у него такие друзья? Даниэль — ну, хотя Даниэль сам антисемит; но моя жена Брухман, свидетель Голомшток, или эта мило картавившая здесь вчера свидетельница, которая говорила, какой «Андгей хороший человек»…
Проще всего — не слышать.
Все, что я сказал, не значит, будто я считаю себя и Синявского светлыми и безгрешными ангелами и то, что нас надо сразу после суда освободить из-под стражи и отправить домой на такси за счет суда. Мы виноваты — не в том, что мы написали, а в том, что отправили за границу свои произведения. В наших книгах много политических бестактностей, перехлестов, оскорблений. Но 12 лет жизни Синявского и? лет жизни Даниэля — не слишком ли это дорогая плата за легкомыслие, за неосмотрительность, за просчет?
Как мы оба говорили на предварительном следствии и здесь, мы глубоко сожалеем, что наши произведения использовали во вред реакционные силы, что тем самым мы причинили зло, нанесли ущерб нашей стране. Мы этого не хотели. У нас не было злого умысла, и я прошу суд это учесть.