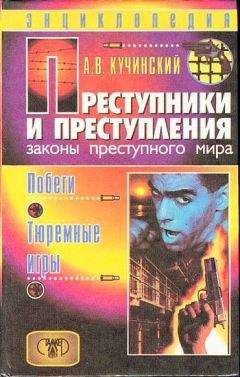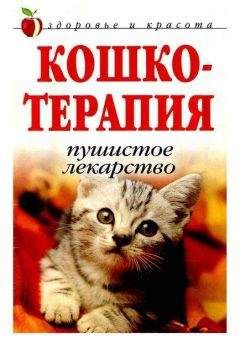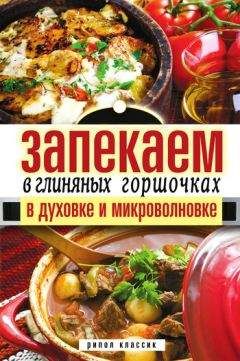Дарья Нестерова - Дерзкие побеги
Всю ночь и следующий день узники бежали, останавливаясь лишь на несколько минут, чтобы отдышаться. Все это время моросил дождь, и это обстоятельство было для них весьма выгодным, так как дождь уничтожал следы беглецов. К тому же друзья старались бежать, прыгая время от времени с валежины на валежину, чтобы еще больше сбить преследователей с толку. Но, как оказалось, одна из собак все же напала на след заключенных.
К вечеру голодные и уставшие беглецы решили передохнуть на небольшой полянке, где, на их счастье, росло несколько кустов со спелой смородиной. Светлов жадно глотал утоляющие голод и жажду ягоды и вдруг, посмотрев на своего товарища, увидел в его взгляде неописуемый ужас. Алексей хотел спросить Афанасия, что случилось, но он в тот момент резко метнулся в сторону и побежал. Светлов, не понимая, что происходит, обернулся: в нескольких метрах от полянки, среди деревьев, стоял конвойный с овчаркой на длинном поводке и целился в него из пистолета. Видимо, собака мешала ему прицелиться, и он спустил ее с поводка.
Натренированная овчарка в несколько секунд преодолела расстояние от конвойного до беглеца и бросилась на Светлова. Инстинктивно он закрыл руками лицо, и собака стала рвать его запястья и кисти рук. «…Потом раздался какой-то крик, – писал в своих воспоминаниях Светлов, – собака отскочила, и я разглядел перед собой искаженное злобой, совершенно озверевшее лицо чекиста и сквозь площадную брань уловил приказ: „Поворачивайся! Расстреляю!“ Тут собака вновь набросилась на меня, и я опять защищался от ее укусов руками. Я не могу этого объяснить, но близость звериной морды заставила меня… улыбнуться! „Чего лыбишься?“ – услышал я срывающийся на визг голос и почувствовал холод от приставленного к затылку дула нагана. Затем раздался звук „дзинь“, и небо надо мной закачалось и опрокинулось…»
Светлов потерял сознание, а чекист, видимо решив, что он мертв, оттащил от него собаку и поспешно бросился вдогонку за другим беглецом. Несколько раз к Алексею возвращалось сознание, и в эти доли секунды он чувствовал только жуткую боль в темени, затылке и верхней челюсти, болели и разорванные овчаркой запястья… Всю ночь израненный беглец пролежал без сознания, а утро принесло ему новые страдания: придя в себя, он отчетливо вспомнил все, что с ним произошло, и, понимая, что конвойный обязательно вернется за его трупом, попытался подняться. С первого раза ему это не удалось, потому что вся правая часть его туловища отекла, руки двигались с большим трудом, правая нога не функционировала, а кашель с кровью и мучительная боль в горле не давали дышать (впоследствии в лагере Светлов узнал, что у него сквозное ранение шеи с повреждением язычка, а также вырвана часть верхней челюсти справа вместе с двумя зубами).
Превозмогая сильную боль, Светлов встал на ноги. С этого момента, как он пишет, начался ад. «Мучительное чувство жажды буквально грызло меня, но когда я стал слизывать капельки росы, вкус ее был столь горек, что последовал приступ кровавой рвоты,» – вспоминал Светлов. Сделав несколько шагов, он остановился: боль была адской. К тому же из-за отека правой части тела он не мог идти прямо, а передвигался, наклонившись вправо и не поднимая головы. «И в довершение всего, – писал Светлов, – мне казалось, что со всех сторон сразу слышался отдаленный собачий лай, вызывая тупую душевную боль»...
Беглец старался не идти проторенными тропами и, двигаясь среди кустарников и деревьев, в конце концов вышел к большому болоту. Невзирая на трудности, Светлов принял решение пересечь болото, так как оно как нельзя лучше могло скрыть его следы. Ступив в ледяную воду, измученный путник потерял равновесие и упал в грязную болотную жижу. С трудом поднявшись, он зашелся в мучительном кашле и, присев на болотную кочку, снова потерял сознание. Очнувшись, Светлов с невиданным упорством вновь пошел по болоту. Он несколько раз падал, терял сознание, но снова вставал и шел… «Человеческая память – удивительнейшая вещь! – писал Светлов. – По прошествии стольких лет я с потрясающей фотографической точностью помню все мгновения моих физических и душевных мук».
Весь день раненый и еле стоявший на ногах беглец перебирался через болото, и наконец к вечеру он, ступив на твердую землю, вышел на большую поляну с копнами скошенного сена. Ему снова послышался со всех сторон собачий лай… Разумеется, это были галлюцинации, но они доставляли Светлову ужасные душевные муки. Подойдя к копне сена, он попытался спрятаться там, но, ударившись о какую-то жердь, потерял сознание. Очнулся он только через несколько часов, днем. Где-то неподалеку слышались женские голоса, видимо, крестьянки пришли убирать сено. Светлов не мог двинуться: жутко болела голова, его тошнило и знобило. «До этого момента я помню отлично все, что делал, все, даже мельчайшие, подробности побега, – вспоминал Светлов, – а далее – какая-то притупленность сознания, безразличие к окружающему, что-то вроде полубреда и только слабый, но явственный голос инстинкта самосохранения пульсировал в мозгу: надо идти, надо идти...» Куда же идти? Смутно помню, как я выбрался из копны и пошел куда-то вниз, по уклону. Внизу оказалась речушка, на ней плотик из тоненьких бревен, а по берегу – могучие заросли спелой уральской малины. Помню рядом с плотиком черемуху с черными ягодами, а рядом лежали нанизанные на палочку подсушенные грибы. Первым делом, превозмогая боль, ложусь и пью, пью, пью... Какое это счастье – чистая, холодная вода! Ощущение такое, будто по жилам заструилась свежая кровь».
Попив воды и съев несколько ягод, путник побрел по тропинке (по тайге идти уже не было сил), потеряв счет времени. Он не помнил, сколько шел, помнил только, что на одном из поворотов тропы ему встретился «седой как лунь старик с горбовиком за плечами, наполненным ягодой». Сначала крестьянин испугался, отшатнулся от беглеца и даже уронил свой горбовик, а затем уже без тени страха осмотрел с ног до головы Светлова и быстрым шагом удалился прочь. Несчастный узник прекрасно понимал, что старик обязательно донесет властям о своей встрече с беглецом. Ведь за такой «подвиг» в те времена служба НКВД давала в награду муку, деньги и именные часы.
Но что оставалось делать Светлову? Бежать в тайгу он не мог – не было сил, а спрятаться ему было негде. И беглец в полубреду, почти бессознательно пошел по тропинке дальше. Через некоторое время он свернул в тайгу и, пройдя немного по лесу, потерял сознание. «Это были последние минуты (или часы) моей свободы...» – писал впоследствии Светлов. Когда он пришел в себя, то услышал собачий лай и голоса людей. Алексей попытался подняться на ноги, но так и не смог. Через минуту прямо перед своим лицом он увидел оскаленную собачью пасть. Он едва успел закрыть лицо руками, и огромные клыки вонзились в предплечья. Кстати, шрамы от собачьих укусов у Светлова остались на всю жизнь.
Овчарка с остервенением рвала предплечья беглеца, а два конвоира, стоявшие поодаль, кричали: «Сдавайся!» «Можно подумать, – вспоминал потом Светлов, – что перед ними была группа вооруженных бандитов, а не раненый, полумертвый и абсолютно беспомощный беглец. Казалось, они боялись меня больше, чем я их...» Один из чекистов стал целиться в беглеца из нагана, но второй остановил его: «Ты что, ведь его должны допрашивать. А тебе „катушку“ дадут за срыв задания» («катушкой» называли приговор к 25 годам заключения). Конвоир спрятал оружие, сломал упругую ветку, заострил ее конец и стал тыкать острием в грудь Светлову, заставляя того встать на ноги. Когда беглец с трудом поднялся, чекист стал тыкать ему острым концом палки в спину, вынуждая бежать. Конечно, бежать Светлов не мог, но, подгоняемый конвоирами, он двигался на пределе своих возможностей.
Несколько раз Алексей терял сознание, падал, но его били, заставляли вставать и с еще большим остервенением гнали вперед, в лагерь... Ему казалось, что время остановилось. Впоследствии Светлов писал, что не помнит, как они дошли до какой-то станции, где, дождавшись поезда, сели в вагон и приехали в лагерь.
Беглеца привели в штаб охраны лагеря, где в кабинете за массивным столом сидел человек в военной форме. «Садитесь, Светлов», – сказал он Алексею, и в его голосе, к удивлению беглеца, послышались сочувственные нотки. Светлов сел, а офицер долго рассматривал его и качал головой. Встав из-за стола, военный несколько раз прошелся вдоль кабинета, затем обратился к Алексею снова: «Ну и что? Чего вы добились? Достигли своей цели? Рады? А я вот как думаю: у вас жизнь и так покалеченная, а вы еще добавили. От нас вы никуда не убежите. Все тщательно, до мелочей, продумано. Мышь не проскочит! А вас мне, Светлов, по-человечески жаль. Посмотрите, во что вы превратились! Столько времени не есть!» «Принесите ему со столовой поесть!» – приказал он охраннику у двери.
Через несколько минут приказание было исполнено, и перед беглецом стояли миски с супом и кашей. Офицер с тоской смотрел, как жадно израненный и истощенный узник глотает нехитрую арестантскую пищу. Глаза начальника блестели от слез. Правда это или нет, но среди заключенных ходили слухи, что для чекистов Азанка считалась гиблым местом: сюда отправляли служить офицеров, которые слишком мягко и сочувственно обращались с «врагами народа». Возможно, тот военный и был таким офицером, сосланным на Азанку за доброжелательное отношение к «изменникам Родины».