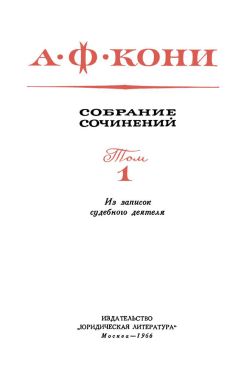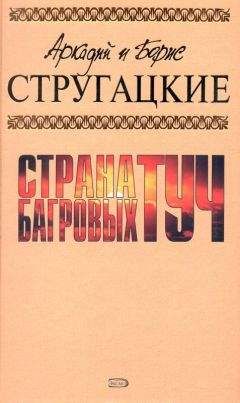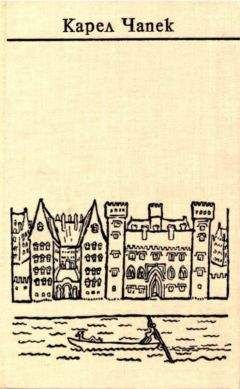Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера
Губернский прокурор мог быть, если хотел, влиятельным лицом и в тюремном управлении. Ровинский предавался этой стороне своей служебной деятельности с горячим усердием и любовью. Пример трогательного человеколюбца, тюремного доктора Федора Петровича Гааза, отдавшегося всецело делу помощи заключенным, утешению их и заботе о них, вызывал в Ровинском глубоко сочувственное к себе отношение и в слове, и в деле. Впоследствии, в официальных записках по поводу тюремной реформы и судебного преобразования, он не раз с особым уважением указывал на деятельность Гааза, девизом которого были удивительные по своей простоте и глубине слова: «Спешите делать добро!». Еще будучи губернским стряпчим, Ровинский, постоянно посещая заседания тюремного комитета , был очевидцем замечательного и памятного ему столкновения Гааза с председателем комитета, знаменитым митрополитом Филаретом, из-за арестантов. Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные при старом строе суда, ходатайства Гааза о предстательстве комитета за «невинно осужденных» арестантов. «Вы все говорите, Федор Петрович, — сказал Филарет, — о невинно осужденных… Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина»… Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места… «Да вы о Христе позабыли, владыка!» — вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря и на евангельское событие — осуждение невинного… Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда еще и никто не дерзал говорить в глаза! Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем, после нескольких минут томительной тишины, встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!..» — благословил всех и вышел.
Каждую субботу и праздник объезжал Ровинский разнообразные московские тюремные помещения и тщательно обходил пересыльную тюрьму и губернский замок в сопровождении стряпчих и секретарей местных — уголовной палаты, магистрата и надворного суда, разрешая жалобы арестантов, пробуя их пищу и тут же, на месте, наводя справки по делам и ускоряя последние. Простота в обращении привязывала к нему всех, а по отношению к должностным лицам его настойчивые просьбы («батюшка! ну, сделайте это для меня, — двиньте вы это дело в личное для меня одолжение», — говаривал влиятельный прокурор секретарям судов) приобретали характер требований, которых нельзя было не исполнить. В эпоху взяточничества и всякого темного своекорыстия личность московского губернского прокурора, всегда скромно и почти бедно одетого, вечно занятого живым делом, а не отписками у себя в камере, все знающего и «видящего насквозь», производила глубокое нравственное впечатление на окружающих. Ему было трудно отказать в его просьбах, его было совестно не слушаться, да и «втереть ему очки» нечего было и думать… Верный заветам Гааза, Ровинский с успехом продолжал хлопоты о сокращении числа лиц, подвергаемых тягостному бритью половины головы в предупреждение побегов; из его записки о тюремных помещениях Московской губернии, проникнутой человечностью, сквозит, несмотря на крайнюю скромность автора, ряд облегчительных мер, предпринятых по его распоряжению с целью улучшить быт арестантов, выведя их из пагубной праздности и вооружив их для последующей жизни хоть каким-нибудь практическим знанием… Особенное внимание обращал он на «частные дома» с их так называемыми «съезжими». Там почти постоянно можно было найти арестованных без всякого законного основания; там было место применения личной расправы с людьми, отпускаемыми затем без всякого суда, — там, наконец, производилась знаменитая, глубоко вошедшая в тогдашние нравы «секуция». «В доброе старое время, — вспоминает Ровинский в „Русских народных картинках”,— „секуция” производилась в частных домах по утрам; части Городская и Тверская, в Москве, славились своими исполнителями; пороли всех без разбора: и крепостному лакею за то, что не накормил вовремя барынину собачку, всыплют сотню, и расфранченной барышниной камердинерше за то, что барин делает ей глазки — и той всыплют сотню: — барыня де особенно попросила частного; никому не было спуска, да и не спрашивали даже, в чем кто виноват, — прислан поучить, значит, и виноват — ну и дери кожу. Хорошее было время: стон и крики стояли в воздухе кругом часто целое утро; своего рода хижина дяди Тома, — да не одна, а целые десятки». Если Городская и Тверская части приобрели себе особенную славу по части телесных наказаний, то Басманный частный дом отличился в другом отношении. Там негодующий Ровинский нашел семь, немедленно им уничтоженных, подвальных темниц, куда никогда не проникал луч света. Они назывались «могилами», и в них расстраивали себе зрение и даже слепли (между прочими— почетный гражданин Сопов) люди, числившиеся «за приставом». В другой из московских частей непрошеная любознательность губернского прокурора открыла специальный «клоповник» для арестованных со всеми его необходимыми принадлежностями.
Немало тревожных забот доставляли Ровинскому и дела о крестьянах и дворовых. Иго крепостного рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия, давило в начале пятидесятых годов всей своею тяжестью и оказывало свое растлевающее влияние на все общественное здание. В Московской губернии постоянно возникали дела о злоупотреблениях помещичьей власти, и хотя Закревский сурово относился в этих случаях к виновным, но в то же время был, по замечанию Ровинского, ярым защитником крепостного права, не допускавшим и мысли о ненормальности создаваемых этим правом отношений. Кроме всесильного генерал-губернатора на беспощадной страже этого права стоял и уголовный закон, подвергавший, на основании ст. 1983 тома IX Свода законов, крестьян, непокорных не только своим господам, но даже и тем, кому последние передали, вполне или с ограничениями, свою власть, — наказанию, установленному за восстание против властей, т. е. каторжной работе на очень длинные сроки и плетям. Понятно, как легко, при таких условиях, могли быть возбуждаемы, по самым ничтожным поводам, в сущности сводившимся лишь к недоразумениям, дела о восстаниях крестьян и какому одностороннему разрешению они подвергались, особенно если иметь в виду, что по ст. 221 второй части XV тома крепостные люди подсудимых могли быть допрашиваемы при следствии лишь за недостатком других свидетелей. Ровинскому приходилось часто и горячо отстаивать и пред Закревским, и в уголовной палате спокойный и трезвый взгляд на дела о «восстаниях» крепостных и, лавируя в узком проливе между формальными доказательствами, отыскивать в деле трудно и неохотно добытые данные, правдиво рисующие житейскую его сторону. А это было необходимо, чтобы убедить графа Закревского в том, что там, где предполагалось «дерзкое колебание коренных основ общества», было подчас вопиющее злоупотребление власти над ближним, и что обиженная в своих правах и безмятежности «жертва» была иногда сама злобною и изобретательною мучительницею, — и тем обратить его гнев на действительно виновную сторону. Нужно было много выдержки, спокойствия, знания и безупречной чистоты в действиях, чтобы выходить победителем при разрешении подобных задач. Хотя это и удавалось Ровинскому, но оставило горький осадок в его душе, отразившийся впоследствии, между прочим, и на его пред-ставленных в Государственную канцелярию, в 1860 году рассуждениях о необходимости «различать бессвязные волнения от того, что еще так недавно возводилось на степень государственного преступления…».
Когда, в 1856 году, по выражению А. П. Ермолова «зарделась заря освобождения крестьян», и Ровинскому как влиятельному губернскому прокурору, представилась возможность проводить в жизнь свои взгляды на крепостное право, он неожиданно чуть не был лишен всякой деятельной роли. По причинам, которых теперь доискаться невозможно, министр юстиции, граф В. Н. Панин, решил зачислить его за обер-прокурорский стол в Сенат. Для кипучей, полной страсти к живому труду натуры Ровинского это было тяжким ударом. Жестокое по отношению к такому человеку, как он, новое назначение — своего рода «сдача в архив» — являлось лишенным смысла и по отношению к делу, которое в умелых руках Ровинского наладилось и шло хорошо. Граф Панин, своеобразная личность которого еще ждет своего историка, любил поражать неожиданными назначениями, о способе производства которых в министерстве юстиции ходили целые легенды. Вообще на странность и бездушную иронию некоторых из распоряжений по личному составу в министерстве юстиции до судебной реформы может указывать и приводимый Н. П. Собко в прекрасной биографии художника Перова, изданной, Ровинским, факт перевода в Архангельск отца Перова, губернского прокурора в Тобольске, просившегося в более умеренный климат, потому что здоровье его не выносило суровой зимы… Но генерал-губернатор, ценивший, несмотря на разногласия, личность и деятельность Ровинского, вступился за «своего прокурора», и благодаря его письму от 19 апреля 1857 г. последний остался на месте.