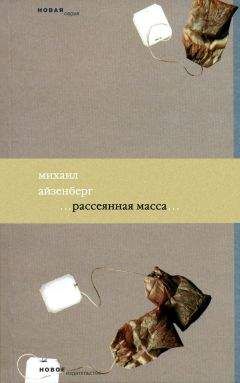Михаил Шаргородский - Избранные труды
В своей практической законодательной деятельности Екатерина также требовала, чтобы точно придерживались «литеры» закона. В Манифесте об учреждении сенатских департаментов от 15 декабря 1763 г. Екатерина писала: «Каждый Департамент имеет принадлежащия ему по… расписанию дела решить… на точном разуме законов…» (пункт 4). «Если ж по какому делу точного закона не будет, в таком случае должен Генерал-Прокурор все дело с сенаторскими мнениями и с своим рассуждением представить к Нам на рассмотрение»… (пункт 5)[219]. В именном указе Екатерины II от 9 сентября 1765 г. «О докладывании Сенату и Ея императорскому Величеству, если усмотрят Коллегии в двух равных делах разные решения» предписывается: «…если которая Коллегия усмотрит в двух равных делах разные Сената решения, то, не чиня исполнения, докладываться о сей разности Сенату и Ея Императорскому Величеству, а Сенат имеет оные дела, с объяснением своих решений, к Ея Императорскому величеству вносить».[220] В учреждении для управления губерний Всероссийския Империи 7 ноября 1775 года в ст. 124 сказано: «Палаты да не решат инако, как в силу Государственных узаконений». Статья 184 того же учреждения гласит: «Понеже всякое решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконении и по словам закона», а п. 9 ст. 406: «судебные же места решат все дела по точной силе и словам закона, несмотря ни на чьи требования или предложения»[221]. Наконец, именным указом от 7 апреля 1788 г., данным генерал-прокурору, Екатерина прямо повелевает: «Сенатской канцелярии твердо и точно держаться законами предписанного обряда при докладе присутствующим о делах; присутствующим же, выслушивая справки и выписки, основывать свои определения везде и во всех делах на изданных законах и предписанных правилах, не применя не единой литеры не доложася Нам, и в случае недостатка в узаконениях, по зрелому уважению Государственной пользы, доносить Нашему Императорскому Величеству»[222].
IV. Законодательство буржуазных государств в XIX в. твердо становится на точку зрения не только дозволенности, но и обязательности толкования судами законов. Так, Французский гражданский кодекс 1804 г. устанавливает в отношении законов вообще, что судья, который откажется судить под предлогом молчания, темноты или недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии (ст. 4) и это положение санкционируется ст. 185 Уголовного кодекса. Наполеон относился крайне отрицательно к толкованию закона, он считал, что комментирование законов запутывает их и вредит правосудию, и хотел так построить свои кодексы, чтобы сделать излишним всякое комментирование. Он был очень недоволен, когда узнал, что появились комментарии к его кодексу[223], но составители кодексов относились к этому вопросу иначе, и Порталис в своей объяснительной речи законодательному собранию при представлении проекта кодекса изложил многие принципы толкования.
Право судебного толкования законов было установлено в Австрии патентом 22 февраля 1791 г. (§ 2) и подтверждено гражданским кодексом 1811 г., в Пруссии – Ордонансом 8 марта 1798 г. и патентом 18 апреля 1840 г.
В России Устав уголовного судопроизводства 1864 г. установил, что «все судебные установления обязаны решать дела по точному разуму существующих законов, а в случае их неполноты, неясности или противоречия основывать решения их на общем смысле законов» (ст. 12).
Анализируя приведенное выше законодательство, мы приходим к выводу, что отрицательное отношение к толкованию имело место в различные периоды по различным причинам. Самодержавные монархи, стремясь сохранить всю полноту власти в своих руках, требуют, чтобы они были единственными судьями для сомнительных случаев. Буржуазия, идущая к власти, выступает против толкования, так как оно (толкование) длительный период времени направлялось против ее интересов и она (буржуазия) опасается того же в дальнейшем. Пришедшая к власти буржуазия, создавшая свой суд, широко разрешает толковать уголовные законы.
§ 2. Толкование уголовного закона в теории буржуазного права
На заре буржуазного общества вопрос о толковании законов и о допустимых границах такого толкования снова стал одним из весьма актуальных. Молодая, шедшая к власти буржуазия, еще не имевшая в своих руках судебного аппарата и видевшая, как представители враждебных ей сословий, путем «изящного» и малоизящного толкования законов в судах, направляют эти законы против ее насущных интересов, выдвигала положение о недопустимости не только распространительного, но и вообще всякого толкования законов. Уже ранние представители зарождающейся буржуазной науки уголовного права высказывались против распространительного толкования законов и аналогии. Так, испанский криминалист Альфонсо Де Кастро, живший в 1495–1558 гг., в своих сочинениях «Justa haredi tacarum punitione» и «De pote-state legis poenalis» высказывался против распространительного толкования законов, он полагал, что наказания должны налагаться на основании предписаний закона и что ни в коем случае наказание не может быть применено по аналогии.
Мор выступает против толкования законов. Он за простые законы. Он пишет: «Законов у них (утопийцев) очень мало, да для народа с подобными учреждениями и достаточно весьма немногих. Они даже особенно не одобряют другие народы за то, что им представляются недостаточными бесчисленные томы законов и толкователей на них. Сами утопийцы считают в высшей степени несправедливым связывать каких-нибудь людей такими законами, численность которых превосходит возможность их прочтения, или темнота – доступность понимания для всякого. Далее они решительно отвергают всех адвокатов, хитроумно ведущих дела и лукаво толкующих законы. Они признают в порядке вещей, что каждый ведет сам свое дело и передает судье то самое, что собирался рассказать защитнику. В таком случае и околичностей будет меньше, и легче добиться истины, так как говорить будет тот, кого никакой защитник не учил прикрасам, а во время его речи судья может умело все взвесить и оказать помощь более простодушным людям против клеветнических измышлений хитроумцев. У других народов при таком обилии самых запутанных законов это соблюдать трудно, а у утопийцев законоведом является всякий. Ведь, как я сказал, у них законов очень мало и, кроме того, они признают всякий закон тем более справедливым, чем проще его толкование. По словам утопийцев, все законы издаются только ради того, чтобы напоминать каждому об его обязанности. Поэтому более тонкое толкование закона вразумляет весьма немногих, ибо немногие могут постигнуть это; между тем более простой и доступный смысл законов открыт для всех. Кроме того, что касается простого народа, который составляет преобладающее большинство и наиболее нуждается во вразумлении, то для него безразлично – или вовсе не издавать закона, или облечь после издания его толкование в такой смысл, до которого никто не может добраться иначе, как при помощи большого ума и продолжительных рассуждений. Простой народ с его тугой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, да ему и жизни на это не хватит, так как она занята у него добыванием пропитания»[224].
Так, уже в XVI в. Мор обосновывал положения, развитые в дальнейшем лишь в XVIII в. Монтескье и Беккариа.
Левелер и диггер Джерад Уинстенли (родился в 1609 г.) в своем памфлете – утопии «Закон свободы, изложенный в виде программы» (1651–1652 гг.), перечисляя бедствия, от которых страдал народ во время Кромвеля, указывал на то, что «… 4) Судьи творят правосудие, как и раньше, по своему произволу. 5) Законы остались прежние, враждебные народу, и только название королевский закон было заменено названием государственный закон». Он также требовал ясности законов и возражал против их толкования: «Закон… должен быть изложен настолько ясно, чтобы не нуждаться ни в каких толкованиях»[225].
Представители молодой буржуазии Монтескье, Вольтер, Беккариа и другие резко высказывались против толкования судами уголовных законов.
Монтескье в своем трактате «О духе законов», рассматривая вопрос о разделении властей, создавал теоретическую базу для признания принципиальной невозможности толкования закона, так как власть судебная не должна вмешиваться в функции власти законодательной и закон должен быть всеми исполняем по точному его выражению. Он писал: «Чем более правление приближается к республиканскому, тем определеннее и точнее становится способ отправления правосудия… В государствах деспотических нет закона: там сам судья – закон. В государствах монархических есть законы, и если они ясны, то судья руководится ими, а если нет, то не старается уразуметь дух их. Природа республиканского правления требует, чтобы судья не отступал от буквы закона. Там нельзя использовать закон во вред гражданину, когда дело идет о его имуществе, его чести или его жизни»[226], «…судьи народа, – пишет далее Монтескье, – не более как уста, произносящие слова закона – безжизненные существа, не могущие ни умерить его силу, ни смягчить его суровость»[227].