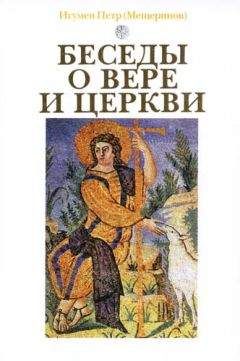И. Потапчук - Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века
Излишне распространяться о глубочайших открытиях в психологии преступления, сделанных, например, Шекспиром или Достоевским. Но вообще вся художественная литература неизмеримо более содействовала смягчению взглядов на преступника, нежели деятельность знаменитейших филантропов-практиков. Эти филантропы только облегчали отбытие наказаний, помогали устранению некоторых физических мук, улучшали тюремный быт и т. п. Но литература действовала гораздо радикальнее: она примиряла общество с самою личностью нарушителя законов. Не стану этого доказывать подробно. Приведу ближайшие, современные факты.
Возьмите хотя бы два рассказа Чехова: «Злоумышленник» и «Беда». Герой первого рассказа крестьянин Григорьев отвинчивал гайки, которыми рельсы прикрепляются к шпалам, иными словами, умышленно повреждал железнодорожный путь с явною опасностью для пассажиров, т. е. совершил преступление. Во втором — купец Авдеев, член ревизионной комиссии одного крахнувшего банка, подписывал подложные отчеты, т. е. судился за преступление. Чехов не юрист. Но кто же — даже самый лучший из нас — по тем двум обвинениям, которые я назвал, когда бы то ни было произнес в суде что-нибудь до такой степени яркое и простое, до такой степени обезоруживающее всякую возможность преследования этих двух преступников (Григорьева и Авдеева), как то, что написал Чехов в этих двух коротеньких рассказах?
А в чем же тайна? Только в том, что Чехов правдиво и художественно нарисовал перед читателем бытовые условия и внутреннюю жизнь этих двух, выражаясь по-нашему, своих «клиентов».
И решительно то же самое мы должны делать в каждой уголовной защите.
Мне возразят, что писатель свободно создает образы, почерпаемые из своей фантазии, тогда как адвокат прикован к фактам действительности. Но позвольте мне назвать это возражение просто глупостью — одною из тех старых глупостей, которые под влиянием привычки превращаются как бы в истину. Ведь я говорю о художественной литературе, которая всегда, как бы она фантастична ни была, имеет в своей основе самую настоящую, самую глубокую правду жизни. Поэтому уголовный адвокат, если он художник, т. е. человек проницательный и чуткий, находится даже в гораздо лучших условиях, нежели писатель. Он имеет подлинную натуру, которую ему нет надобности ни маскировать, ни переделывать. Как портрет есть самая благодарная тема для живописца (портретами обессмертил себя Веласкес), так и подлинное дело есть наилучший материал для художника слова, каким непременно должен быть защитник в суде.
Один мой товарищ, конечно, вполне искренно предостерегал одного подсудимого, желавшего обратиться к моей защите. «Ведь Андреевский — поэт, а не адвокат,— сказал он,— вам нужно поискать кого-нибудь более серьезного». С моей точки зрения, это был невольный комплимент. В переводе на мой язык это значило: «Андреевский слишком умен, найдите кого-нибудь поглупее». А клиент все-таки испугался и послушался.
И я прекрасно понимаю всесилие этой рутины. Ведь даже мой благосклонный критик, присяжный поверенный Ляховецкий, наделив меня всевозможными достоинствами, оговорился, однако, что я все-таки «не адвокат чистой крови». Вероятно, и это — намек на поэзию, ибо я не догадываюсь, каким образом уголовный защитник может быть «адвокатом чистой крови»? Что ему для этого нужно? Иное дело цивилисты. У них действительно умы совершенно специальные. Здесь можно говорить о расе, о юристах «по крови». Но уголовники?!
И кому бы, казалось, а уж никак не критикам уголовных защитников клепать на поэзию. Ведь Плевако в защите Качки как лучшим доводом воспользовался разбором некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной...»; Адамов неоднократно эксплуатировал стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...». А Потехин оправдал Кожевникова, зарезавшего свою любовницу, даже посредством... музыки, доказывая присяжным, какую невыразимую печаль на сердце вызывают мотивы вальса «Дунайские волны».
Скажу прямо: чем менее уголовные защитники — юристы по натуре, тем они драгоценнее для суда. Гражданский суд имеет дело с имуществами, а уголовный — с людьми. Уголовный защитник призван ограждать живые людские особи от мертвых форм заранее готового и общего для всех кодекса. Если уголовный защитник будет таким же зашнурованным или, придерживаясь Ляховецкого, «чистокровным» юристом, как прокурор, судьи и секретарь, то ни одного житейски допустимого и понятного приговора не получится. Уголовный защитник, если он является чутким, правдивым, искренним бытописателем и психологом, всегда будет дорог для суда, всегда будет выслушиваться с уважением и вниманием, ибо сами судьи сознают, что их привычка к формам мертвит их совесть, удаляет их от потребностей жизни, которым они желали бы служить, а потому каждое верное, свежее слово, приходящее к ним из-за стен суда, заставляет их прислушиваться к голосу действительности, интересует их, смягчает поневоле их сердце. Юриспруденция нужна уголовному защитнику не как нечто существенное, а как нечто вполне элементарное, вроде правил грамматики для писателя, ученических чертежей для живописца, позиций для танцора и т. п. Присутствие этого звания должно быть почти незаметно в главных задачах его деятельности.
Впрочем, в этом отношении у меня есть антагонисты. Мне передавали такое суждение: «Уголовная защита есть работа упорная, грубая, совершенно антихудожественная. Едва открывается заседание, как уже следует помышлять о кассационных поводах...» Очевидно, подобное суждение может принадлежать только дельцам, лишенным художественного таланта, т. е. таким уголовным специалистам, которые теперь годятся лишь для второстепенных услуг, т. е. для консультаций, писания жалоб и т. п., но не для решительной минуты словесного спора. Адвокаты этого рода напоминают старинных докторов, которые всегда напускали на себя важность, любили тянуть лечение — и никогда настоящим образом не понимали сущности недуга. Таких людей теперь найдется немного.
В русской адвокатуре уже был очень большой и, в сущности, трагический талант этого направления — А. В. Лохвицкий, совершенно недосягаемый для современных эпигонов того же типа. И этот первоклассный уголовный юрист, человек с громадной эрудицией, изобретательностью и остроумием, проиграл свою кампанию перед реформенным судом. Он не переставал удивляться до своих последних дней, каким образом люди легкомысленные, «но с божественным огнем», с искренним и живым дарованием, преуспевали больше, чем он. А Лохвицкий был добрый и хороший человек, но только ослепленный старой верой. Что же теперь можно сделать с этой верой? Судебная реформа с отменой письменного производства, формальных доказательств и множества инстанций положила предел кляузе. Новый устав идеально прост. Любой помощник присяжного поверенного в один год, много в два овладеет всею техникой судебного заседания со всевозможными кассационными поводами. Современному защитнику-криминалисту, конечно, необходима эта подготовка, но она так несложна, что о ней и говорить не стоит. Сколько-нибудь даровитый человек будет в то же время и превосходным знатоком всех законных прав защиты, включая сюда Уголовное уложение и пропечатанные под каждою статьей разъяснения Сената.
Поэтому ставить на первый план свои глубокие познания в этой простой юриспруденции могут только мистификаторы, надеющиеся морочить клиентов. Старые времена миновали. Настал суд жизни, а не мертвой формалистики. И то, что эти господа называют защитой, есть только «волокита». Бумажное сутяжество удается им гораздо лучше, чем живое слово, и сколько бы они ни доказывали свою необходимость и важность в отправлении правосудия, они, в лучшем случае, достигнут только хорошего заработка, но судебными ораторами в истинном и благородном значении этого слова никогда не будут.
Возвращаюсь к литературе.
Я уже упоминал о двух превосходных рассказах, или, вернее, «уголовных защитах» Чехова. Но возьмем писателя в другом вкусе. Вот вам газетный фельетонист, пишущий чуть не ежедневно о чем попало, на скорую руку,— Дорошевич. И этот самый Дорошевич разобрал в нескольких фельетонах «России» запутаннейшее дело Скитских так живо, логично, ясно, просто и талантливо, с такою находчивостью и бытовою правдивостью в объяснении всех кажущихся недоразумений, так ловко объединил все части своего исследования, представил такую любопытную и цельную картину всего дела, что, если бы его фельетон попал в сборники адвокатских речей, он превзошел бы все известные мне образцовые речи наших адвокатов по делам с косвенными уликами. Помнится, закончив чтение этих фельетонов, я кому-то сказал: «Теперь я до очевидности понимаю, что Скитских осудить невозможно. И к чему после этого еще раз проделывать сложную комедию суда? Следовало бы теперь просто это дело свыше прекратить».