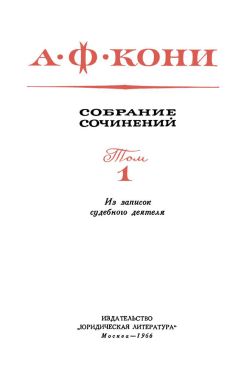Анатолий Кони - Том 3. Судебные речи
Обращаясь к тому, что хотел сделать Торчаловский с распискою, полученною им от княгини Щербатовой, я допускаю следующее предположение, которое, как мне кажется, единственно и возможное в настоящем деле. Торчаловский кончал свои занятия у Щербатовой, княгиня удаляла его, и он должен был предвидеть, что рано или поздно дело неминуемо кончится этим. Поэтому надо было извлечь наибольшую выгоду из служения при полуграмотной старухе. Еще с декабря 1869 года, с каждым днем, здоровье княгини делается хуже и хуже, происходит несколько консилиумов, и, наконец, доктора предполагают, что больная проживет только до вскрытия Невы, т. е. до половины апреля. Почему же не воспользоваться выгодами своего положения, чтобы потом иметь возможность из имущества княгини получить львиную часть? И вот составляется расписка, подсовывается к подписи княгине и является свидетелем дворник. Приближается март месяц, Нева скоро вскроется, здоровье княгини делается с каждым днем все хуже и хуже, она слабеет и с первыми льдинами уплывает в другой мир. Между тем, порядок производства гражданских дел в окружном суде подсудимому известен: он знает, что как бы быстро ни производилось дело в суде, все-таки пройдет около трех недель, как было и в настоящем случае, прежде чем вопрос о возбуждении спора о подлоге возникнет у того лица, которое может заявить этот спор. Поэтому княгиня узнает об иске, предъявленном в начале марта, лишь в конце месяца, когда она одною ногою уже будет стоять в гробу и когда ни ей, ни окружающим ее будет не до споров о подлоге. Ввиду этого Торчаловский 3 марта предъявляет иск; лишь 26 был предъявлен спор о подлоге. Иск, таким образом, был предъявлен при жизни княгини, и наследники ее лишились права заподозревать действительность документа, потому что при жизни княгини о нем не было «ни слуху, ни духу». Торчаловскому хотелось прежде всего обеспечить себя со стороны Бартошевича, но это не удалось; между тем, о расписке уже стало известно, и тогда, делать нечего, он предъявил расписку ко взысканию. Это было в начале марта, а перед тем он делал заявление нотариусу о том, что просит княгиню покончить с ним к 1 марта все сделки и затем всякие претензии считать с его стороны недействительными. Это заявление доставляется княгине, которая отвечает, что никаких претензий на нее у Торчаловского нет. Этим Торчаловский обеспечил себя против дальнейших споров княгини или ее наследников. Он мог всегда сказать, что просил княгиню заблаговременно окончить счеты, и только благодаря ее упорству вынужден был обратиться к суду. Ему надо было выждать время, пока княгиня доживает свои последние дни. Он знал, что лишь только ее старческое тело будет трупом, со всех сторон, как стая воронов, слетится толпа наследников, прихлебателей и всякого рода близких друзей покойницы; каждый будет стараться получить какой-нибудь кусочек из имущества княгини, и тогда среди этого всеобщего спора, в разгар всей этой суматохи у смертного одра княгини некому будет заняться предъявленной ко взысканию распиской, предъявлять спор о подлоге, вести тяжбу и пр. Притом, если бы кто-нибудь и захотел возражать против этого иска, то есть свидетель, который всегда отличался честностью и который удостоверит действительность расписки, и затем есть еще весьма возможная свидетельница, на случай надобности, которую также можно прибрать к рукам; эта женщина бедная, болезненная, за которой можно поухаживать, которую можно приголубить; известно, что при болезненном состоянии, в беспомощном старческом возрасте, всякая ласка ценится высоко, да притом она не хорошо и поймет, пожалуй, что от нее потребуется, следовательно, не решится отказать своему благодетелю. С этими двумя свидетельствами, имея в запасе заявление нотариусу, Торчаловский может с успехом рассчитывать, что он выиграет дело, тем более, что сами «касперты», как выразилась Константинова, называя так экспертов, скажут, что подпись на расписке подлинная.
Обращаясь к участию в деле Аверьянова, я думаю, — насколько мог познакомиться с личностью подсудимого из дела, — что он не без борьбы согласился участвовать в подписании расписки. Недаром же и, конечно, не сразу ему, простому дворнику, было предложено 500 руб., а затем явилась расписка в 700 руб. В показаниях Бондырева существует маленькое разочарование: сначала говорит он о расписке в 500 руб., а когда затем была взята эта расписка, то она оказалась в 700 руб. Бондырев добросовестно удостоверил это обстоятельство, но не мог объяснить его. Я думаю, что обстоятельство это объясняется очень просто. По ходу дела, условие с Аверьяновым должно быть совершено до предъявления иска, т. е. до 3 марта, потому что надо было заранее приобрести это свидетельство. Эта расписка была на 500 руб. серебром и ее-то видел Бондырев, которому тоже не совсем осторожно проболтался Аверьянов. Когда об этом узнал Торчаловский, то он увидел, что необходимо свидетеля этого поставить в противоречие с самим собою. Отсюда желание выдать другую расписку Аверьянову, отличную от той, которую видел Бондырев. Кроме того, и сам Аверьянов, видя, что дело затягивается, что его начинают «таскать» к судебному следователю по делу о расписке княгини, что он проживается, — видя все это, мог потребовать большего вознаграждения, мог пригрозить… Ему выдается расписка в 700 руб. от 20 мая, которая поражает громадною цифрою вознаграждения дворнику «за приезд из деревни».
Какие бы убытки ни понес Аверьянов в своем деревенском хозяйстве от вызова к судебному следователю, во всяком случае, они не могли достигнуть до такой суммы, тем более, что когда он жил в городе, то его годовой заработок равнялся, как известно, 108 руб. Да и странно, что Торчаловский взялся вознаграждать от себя лицо, которое, по требованию судебного следователя, обязано было явиться к допросу. Да и могло это быть иначе. Если Торчаловский предполагал, что Аверьянов будет вызван как обвиняемый в соучастии в подлоге, то он не мог не знать, что расписка в руках Аверьянова, и притом на большую сумму, еще увеличит подозрение. Если же он думал, что Аверьянов явится просто как свидетель в деле, то допрос его мог быть произведен следователем даже и на месте его жительства. Вообще, и самый образ действий Аверьянова с распискою подтверждает мое мнение о том, что этому человеку трудно было решиться до конца исполнить роль, возложенную на него Торчаловским; побывав у Бондырева и увидев, что дело неладно, он уехал в деревню, а явившись оттуда, постоянно оставался на заднем плане и, очевидно, не дорожил распискою, приобретенною неправедным образом. Недаром же она валялась в грязном белье, на дне незапертого сундука, в доме Цукато. Затем здесь говорилось еще о письме Аверьянова. Я не стою на том, чтобы слово «пишите» не было в действительном сроем смысле словом «отпишите»; во всяком случае разница здесь будет весьма тонкая, грамматическая, но не изменяющая смысла письма. Аверьянов обещал исполнить свою обязанность, явиться, в случае надобности,, к следователю, и показать будто бы всю правду. Но зачем же Аверьянову писать об этом Торчаловскому и даже получить за это большие деньги? Ведь и без того судебный следователь мог вызвать его по повестке, когда будет нужно, и он обязан был явиться; об этом знал Аверьянов, потому что, как старший дворник большого дома, он не мог не знать безусловной обязанности являться по повесткам следователей и мировых судей, которые, конечно, не раз бывали в его руках. Поэтому и расписка, и письмо Аверьянова — все это улики против них.
Перехожу к свидетельнице Константиновой. Думаю, что вы, господа присяжные заседатели, разделяете мое доверие к показаниям этой свидетельницы; вы, как и я, признаете, что а наивном, несколько комичном рассказе ее содержится много душевной теплоты и правдивости. Повторять это показание излишне: оно слишком памятно по своей оригинальности. Можно только указать на некоторые части этого показания. Свидетельница говорит, что она была больна и затем была взята из больницы Торчаловским к нему в дом и что, когда она была еще слаба, он заставил ее подписать известное письмо, с выражением удивления, что он, Торчаловский, подвергается незаслуженным подозрениям. Письмо помечено 17 марта. Что она была в это время очень слаба, так что не могла писать длинное письмо, это видно из официального документа, а именно из скорбного листа, в котором говорится, что она доставлена в больницу в половине февраля, «вынесена на руках», как она говорит сама, в состоянии сильной чахотки. Только после 11 марта замечено в ее состоянии некоторое улучшение, и лишь 5 мая выписана она из больницы по собственному желанию. Затем, больная и слабая, она привезена к Торчаловскому, который за ней ухаживает и дом которого был единственным ее пристанищем в это время, так как на вопрос, к кому бы она пошла, выйдя из больницы, если бы ее не взял Торчаловский, она отвечала стереотипною фразою, что «свет не без добрых людей». Облагодетельствованная таким образом, завернутая в шубу госпожи Торчаловской, окруженная попечениями подсудимого, больная старушка могла считать себя настолько обязанной Торчаловскому и притом настолько неясно понимала, чего от нее требуют, что весьма естественно могла исполнить его просьбу. Ее словам о способе писания письма можно вполне верить, и они подтверждаются двумя обстоятельствами: во-первых, письмо написано на таком же листе бумаги, такого же формата, с таким же гербом на углу листа, на котором написана и расписка княгини Щербатовой, и расписка, выданная Торчаловским Аверьянову. Это дает возможность предполагать, что бумаги происходили из одного источника. Затем, во-вторых, Торчаловский просил обратить внимание на безграмотность письма Константиновой и отсутствие в нем соблюдения правил орфографии* чем, по его мнению, вполне опровергается ее объяснение. Но это письмо вовсе не безграмотно; оно написано со смыслом и толком. Притом никто и не думает утверждать, что Торчаловский сам писал его. Нет! Константинова определительно говорит, что Торчаловский диктовал ей это письмо. Поэтому орфография в нем принадлежит Константиновой, а содержание — Торчаловскому. Это последнее обстоятельство видно уже из того, что письмо начинается деловым юридическим языком. Я думаю, что, посмотревши на Константинову, всякий признает, что такого рода обороты речи подобная женщина не станет употреблять. Письмо начинается словами: «Я слышала, что против вас предъявлен иск по документу» и т. д. Эта фраза так и отзывается тем языком, которым пишутся исковые прошения. Затем здесь старались поколебать заявления Константиновой тем, Что она несвоевременно заявила о всех обстоятельствах дела на предварительном следствии. Но она заявила об этом немедленно опекунам над имением княгини Щербатовой, заявила князю Сергею Щербатову и господину Мысловскому. У следователя же ее заявление явилось запоздавшим потому, что судебный следователь мог вызвать ее только через четыре месяца, после ее разыскания. Надо заметить, что письмо, будто бы писанное ею, вызывает еще следующие соображения: 17 марта княгиня была еще жива; из ее дома была вынесена Константинова, и к ней одной, после восьми лет совместного житья, должна она была вернуться. Почему же эта Константинова, которая теперь, забытая и оставленная княгинею, так настойчиво защищает на суде интересы и память покойной, почему же она тогда, когда княгиня была для нее «все», вдруг так ополчилась за интересы чуждого ей Торчаловского, зная, что этим отрезывает себе возможность возврата в дом княгини Щербатовой? Все это не в порядке вещей, потому что не было в действительности, а измышлено Торчаловским. Затем остается еще третья ссылка подсудимого Торчаловского, который, видя, что свидетельница Константинова не оправдывает его ожиданий, ссылается еще на свидетельницу Коханееву, которая упорно стояла на своем показании, утверждая, что, приходя к княгине с просьбою о помощи, она слышала, что княгиня называла Торчаловского негодяем и мерзавцем за то, что он расписку предъявил при ее жизни, а не после смерти, как она того хотела. Я полагаю, что этот рассказ Коханеевой представляется крайне неправдоподобным. Ее никто из близких княгини не видал в доме, никогда и нигде с нею не встречался. Кроме того, если бы княгиня действительно говорила приписываемые ей слова, то выдача Торчаловскому расписки, по которой уплата должна быть совершена немедленно по предъявлении, представляется крайнею нелепостью, и, имея это в виду, княгиня, конечно, скорей всего отказала бы Торчаловскому 35 тыс. руб. по завещанию, не отдавая себя, таким об-» разом, в руки человека, которого она характеризовала, по словам Коханеевой, в таких кратких, но сильных выражениях. Таким образом, Коханеева является свидетельницею далеко не достоверною, хотя нельзя не признать, что ввиду сделанного ею заявления об отзыве княгини Щербатов вой указание со стороны Торчаловского на подобную свидетельницу требует немалого самоотвержения. Наконец, для полноты характеристики следует упомянуть еще о сокрытии следов преступления. Когда подсудимый был арестован и когда ему нужно было спеться, согласиться с Аверьяновым, когда он находил необходимым напомнить ему о том, что он должен показывать, он написал записку, которая была здесь предъявлена. Содержание этой записки достаточно ясно и не нуждается ни в каких объяснениях. Это обстоятельное наставление Аверьянову о том, что говорить при следствии, чтобы спастись самому и вместе с тем спасти и Торчаловского. Вот те данные, которые представляются к обвинению подсудимых.