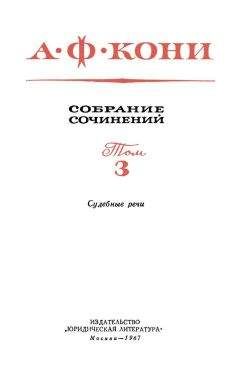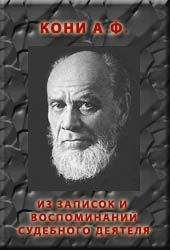Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Из записок судебного деятеля
«Есть у меня, — сказал мне Амвросий, — вопрос, по которому хотелось бы поговорить с вами по душе. Сколько вам лет?» — «44». — «Вы холостой?» — «Да, владыка». — «И уже достигли столь высоких степеней! Пожалуй, вам на этом пути и ждать более нечего». Он многозначительно посмотрел на меня, помолчал, перебирая четки, и внезапно выпалил: «Постригитесь! Да! Постригитесь! — сказал он, увидя мое удивление, — я вам серьезно это говорю. Мирские соблазны для вас уже не должны иметь притягательной силы, а с вашим ораторским талантом, умом и энергией вы можете далеко двинуться в духовном ведомстве. Дайте мне вас постричь, через полгода вы — иеромонах, через год — архимандрит, а через три года — епископ. Даю вам слово, что я вас проведу в епископы, а затем дорога открыта, и Константин Петрович вас, конечно, оценит и не оставит в тени. А?» — и он лукаво заглядывал мне в глаза. На мое заявление, что я не чувствую никакой склонности к монашеству и не сведущ в богословских науках, он мне с некоторым цинизмом возразил: «Все это вздор, ведь я же буду вас экзаменовать, только дайте мне себя постричь, а остальное все приложится». Внутренне смеясь хитрому замыслу этого не евангельского рыбаря, который в своих личных целях хотел вытянуть на пустынный берег монашеского честолюбия крупную светскую рыбу в лице обер-прокурора Сената, обращавшего в ту минуту на себя общее внимание, я спросил его: «А как же дело о крушении?»— «А дело вы кончите обвинением их, я же только донесу куда следует, что, побеседовав со мной, вы пришли к убеждению в необходимости принять по окончании дела иноческий чин». — «Это невозможно», — сказал я таким тоном, который прервал всякие дальнейшие рассуждения на эту тему. «Напрасно, — сказал, покачивая головой, владыко, — потом раскаетесь, а какой бы из вас славный вышел Иннокентий или Макарий!» Через несколько лет, будучи проездом в Харькове, я посетил хитрого лицедея, чтобы поблагодарить его за присылку мне отдельных оттисков его проповедей. «Вот, — сказал он, — что-то не слышно о вашем движении вперед, а ведь кто стоит на месте, тот идет назад. Послушались бы меня в 88 году и были бы теперь по меньшей мере архиепископом. Пожалуй, и теперь не поздно, но трудновато»… — «Если трудновато, — сказал я, смеясь, — то зачем же и трудиться?»
Около 20 декабря явился в Харьков для допроса в качестве обвиняемого барон Таубе, настойчиво просивший меня принять его на дому для необходимых объяснений. Принятый, наконец, мною, он бессвязно лепетал о своей долголетней службе, которая, «казалось бы», должна была его избавить «от тасканья по судам», обвинял во всем Шернваля, горячо просил пощадить его и плакал столь обильными слезами, что я ничего подобного в моей жизни не видал. Как я ни утешал его, указывая на слабость грозящего наказания, на снисхождение суда, на возможность помилования, он махал безнадежно рукою, твердил «чем я виноват», сопел носом и «лил потоки слез нежданных», оставивших, по его уходе, даже заметный след на полу… Допросом Шернваля, который уже нисколько не щадил Посьета, в сущности, и заключилось следствие, дополняемое затем обширнейшими письменными объяснениями привлеченных.
5 января я вернулся в Петербург, предоставив Марки заключить следствие и предъявить его обвиняемым. Меня ожидал ряд кассационных заключений по весьма важным делам и вопросам, которыми я занялся с живостью* радуясь возможности от ежедневных мелочей практического исследования обратиться к общим вопросам права и процесса. В петербургском обществе интерес, возбужденный крушением, значительно ослабел, но внимание правительственных сфер обращало на себя внесенное министром юстиции в Государственный совет представление о порядке привлечения к ответственности и предания суду министров.
Манасеин предупредил меня, что по желанию государя я буду приглашен в особое совещание при Государственном совете для разрешения вопроса о возможности привлечения Черевина, Посьета и Шернваля.
Прежде, однако, чем это приглашение состоялось, мне пришлось присутствовать при допросах Посьета и Черевина и затем быть участником в характерном эпизоде. На судебного следователя по особо важным делам Петровского, так рано оторванного смертью от своей полезной и строго законной деятельности, был возложен интересный и важный для дела допрос министра путей сообщения и главного начальника охраны. Я поехал вместе с ним к обоим в качестве наблюдающего за следствием лица прокурорского надзора. Черевин встретил нас в генерал-адъютантском сюртуке, застегнутом на все крючки, был изысканно вежлив и весьма спокойно дал умное и обстоятельное показание. Он объяснил нам, что действительно на станции Тарановка, выйдя на платформу и гуляя по ней с Посьетом, выражал сожаление, ни к кому специально не обращаясь, о том, что не удастся вовремя приехать в Харьков вследствие полуторачасового опоздания. «Я — начальник охраны, — говорил он, — и — и мои распоряжения, вытекающие из заботы о безопасности государя, приноровлены к точно определенному времени и стоят в связи с целым рядом приказаний и действий, почему я прямо заинтересован, чтобы императорские поезда приходили по расписанию минута в минуту; в соблюдении этого — моя первая обязанность. Я не техник, и насколько возможно ускорение хода данного поезда в данное время, — мне неизвестно, но я высказывался в присутствии министра путей сообщения, который стоял возле и все слышал. Ему стоило мне сказать, что ускорение невозможно, и я не только замолчал бы, но ввиду опасности такого ускорения стал бы даже просить не предпринимать его. Но Посьет молчал и вместо того, чтобы сказать мне: «Вы ничего не понимаете в этом деле», считал галок на крыше. Теперь он, кажется, хочет все свалить на охрану и придворное ведомство, ужасно труся ответственности. Ведь не в матросы же его разжалуют». И так далее, в том же роде, Когда Петровский, обратив живую и остроумную речь Черевина в форму делового протокола, уехал и я собирался уходить, Черевин попросил меня немного остаться и рассказать ему о том, что я знаю о впечатлениях местного населения. Я рассказал ему о приподнятом настроении харьковской молодежи, о растроганных рассказах очевидцев пребывания государя в Харькове и о всем том, что должно бы служить указанием царю, как легко привязать к себе русский народ и общество, если только относиться к ним по-человечески и с доверием. Черевин слушал, опустив свое красное, как кирпич, пропитанное спиртом, лицо и теребя свой длинный, висящий книзу, ус. Но когда я рассказал ему о молебнах, которые служили бескорыстно и безвестно бедные крестьяне около места катастрофы, под нависшим осенним холодным небом, он поднял голову, и его мутные карие глаза оказались в слезах.
Совсем другим характером отличался допрос Посьета. Он принял нас в большом светлом министерском кабинете (Черевин же жил в нижнем, чуть не подвальном этаже на Сергиевской, причем темные и мрачные комнаты его квартиры напоминали казематы), одетый в тужурку, со стаканом недопитого чая на столе. Он был смущен, хотя старался этого не показывать и перед началом допроса стал с трогательной заботливостью говорить о том, сколько достойных лиц служит в его ведомстве и как несправедливы огульные обвинения на инженеров путей сообщения, столь усилившиеся после кукуевской катастрофы. Во время допроса он часто принимал вид обиженного сановника, снисходящего на ответ, и, когда Петровский записывал отдельные периоды его объяснений, он с напускным спокойствием отхлебывал свой чай и делал вид, что пробегает газету. Раза два я замечал, что бедный старик держит газету вверх ногами. Ответы его поражали наивностью и полным непониманием им как своего положения в деле, так и могущего падать на него обвинения. На мой вопрос, известно ли ему, как нарушались правила о составлении поездов чрезвычайной важности, он ответил: «Как же, как же, ужасно были длинные поезда и тяжелые». — «Но отчего же не соблюдалось правило о количестве осей?» — «Да, ведь, как его было соблюдать, — отвечал он, — когда каждый придворный и особенно дамы требовали себе отдельное купе? Сколько из-за этого вышло неприятностей! Чтобы их избежать, приходилось поневоле отступать, и поезд становился слишком длинен и тяжел». — «Если вы сознавали это и не считали возможным положить этому предел, между тем как имели на это право, ибо состав поезда определяется министром, то отчего вы не обратили внимания государя на опасность требований его свиты?» — «Я обращал», — живо ответил Посьет. «Ныне царствующего государя?» — «Нет, покойного Александра II. Это было лет десять назад. Мы прибыли в Александрово на свидание с германским императором и находились у дверей царских комнат, когда быстро подлетевший немецкий поезд сразу остановился». — «Вот как это у них делается! — сказал покойный государь, — а мы замедляем ход и подползаем к станции!» — «Но ведь у них, — отвечал я, — всего 4 вагона». — Сказав это, Посьет многозначительно замолчал. «Ну, и что же дальше?» — спросил я его. «Да ничего, — отвечал он, — разговор на этом оборвался, потому что Вильгельм уже выходил из вагона, и мы двинулись ему навстречу». — «И этим и ограничились ваши указания на неправильный состав поездов?» — «Да». — «Докладывал ли вам Шернваль о заявлениях Витте и Васильева?»— «Да, было что-то в этом роде». — «Вы приказали передать их в министерство, но отчего же вы не сделали немедленно нужных распоряжений ввиду важности этих заявлений?!» — «Да какие же распоряжения ночью? На будущее время мы бы это приняли во внимание, а тут было бы очень много недовольных. Не оставлять же их в дороге?!» — «Забота о них, об этих недовольных, казалось бы, не относилась к вашим обязанностям, и, наконец, разве нельзя было сократить поезд волею государя по вашему докладу?» Посьет улыбнулся с видом человека, не имеющего ничего ответить на глупый вопрос, и молча пожал плечами. Ответы его Петровскому по различным техническим вопросам были такого же рода. Так, он прямо признал, что с технической стороны состав поезда, соответствующий 22 пассажирским вагонам, вполне неправилен, и заявил нам, что производство необходимых технических осмотров ходовых частей поезда, имеющего более четверти версты длины, в высшей степени затруднительно при десятиминутных остановках на станциях. Я припоминаю, что относительно чрезвычайной скорости поезда он сказал: «Да, и мы с Шернвалем замечали, что идем с необычайной быстротой, и, сидя в одном купе, стали считать удары по стыкам, причем Шернваль сказал, что эта скорость превышает 60 верст». — «Ну, и что же вы предприняли?»— «Да ничего». И он пожал опять плечами: «Тут вскоре и крушение произошло». На вопрос, объяснил ли он Неревину невозможность ускорения, он только махнул рукой и сказал: «Там ведь был барон Таубе; поезд был в его непосредственном заведовании». Когда его ответы были сжато оформлены Петровским четким и красивым почерком, я отошел к окну прочесть показания целиком, а Посьет снова принялся за газету. Показание в своей совокупности производило самое печальное впечатление. Лежавшее на Посьете обвинение в формальном отступлении от правил было столь ясно и объективно само по себе, что его показания, конечно, ни в каком случае не могли бы его поколебать. Но нелепый старик лез со своими объяснениями прямо в петлю и давал такие краски для будущей обвинительной речи, что мне стало жалко его седин. Я сказал Петровскому, что надо дать старику одуматься, что не следует пользоваться тем, что он, как выражался Белинский, «глуп до святости», и что надо бы дать ему время обсудить весь тот вздор, который он сам на себя наплел. Петровский — человек с чутким сердцем — вполне разделил мое мнение и предложил окончить допрос на другой день. «Мы прерываем следственные действия на сегодняшний день, — сказал я Посьету, — и господин судебный следователь окончит их завтра; может быть, вы найдете нужным что-либо обдумать в этом показании и исправить прежде его подписания». Этим я, в сущности, ясно говорил ему: «Да позови ты, старый дурак, вечером кого-нибудь из умных и знающих людей, например хоть Салова, и расскажи им, что ты наболтал; пусть они придадут твоим глупостям хоть приличную форму, достойную министра». Но старик нас не понял и с недовольным видом сказал: «Что же тут еще обдумывать: я, кажется, все объяснил». — «Во всяком случае, мы приедем завтра», — сказал я. И когда на другой день мы вновь приехали к нему, он с благодушной улыбкой подал свое показание Петровскому и сказал: «Вот, очень вам благодарен, я прочел и исправил… знаки препинания»…