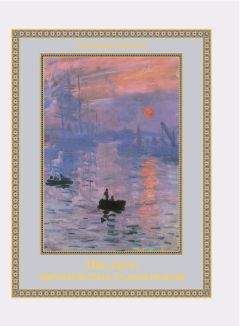Линор Горалик - Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими
ГОРАЛИК Чему вас там учили?
СКИДАН Радиолокации на подлодках и кораблях. Изучали радиоаппаратуру. В принципе, более или менее щадящая вещь, все-таки какая-то техника, какие-то знания, не просто ать-два. Ну, ать-два тоже было, но не только. И когда стали выдаваться секундочки уединения, я пытался сочинять стихи, это было какое-то спасение. И вот там, в армии, я, может, и понял, что стихи – это самое главное. Мне было восемнадцать. Помню, перед самым дембелем был забавный эпизод: замполит входит в ленинскую комнату, видит, что я что-то пишу. «Можно посмотреть?» Это было что-то пастернаковское, про природу, там были строчки про деревья, которые «внимают грядущим переменам, дыханье затаив». Ну, имелась в виду смена сезонов, что-то невинное. Март как раз был. Он говорит: «О каких переменах идет речь?» Забирает мой листочек и приглашает к себе в кабинет. Пришли в кабинет. Он поинтересовался, кто мой любимый поэт. «Маяковский, – говорю. – Вознесенский». – «А Евтушенко вам не нравится?» Стали Евтушенко обсуждать. Он говорит: «Мне очень нравится „Бабий Яр“»… Ну и все в таком духе. А через несколько дней умер Черненко. В общем, в армии я понял, что поэзия – это мое. Перед поездом зашел в книжный магазин и купил кирпич «Западноевропейская поэзия XX века», там была сандраровская «Поэма о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской», Тракль, Оден, Элиот… Я практически не слезал с верхней полки все семь дней пути. Это был шок.
ГОРАЛИК Как с театром?
СКИДАН По-другому. Театр – это ощущение праздника, эйфории, своей среды. А здесь было что-то другое, более сокровенное. Вернувшись, я устроился в котельную, чтобы сутки через трое работать и все свободное время отдавать театру. Кроме того, в котельной, если приноровиться, можно легко своими делами заниматься – читать, писать. Это был 85-й год, как раз Горбачев пришел. Никаких мыслей о том, чтобы печататься, у меня не было. Хотя знакомые поэты уже были, одно время я работал в одной котельной с Димой Григорьевым, он мне про «Клуб-81» рассказал, какие-то машинописные сборники приносил, свои стихи показывал. Театр отнимал кучу времени и сил, и в какой-то момент я понял, что больше не могу разрываться между поэзией и театром. Детские спектакли стали тяготить, а взрослые репетировались через пень-колоду плюс идеологические разногласия с режиссером, обострившиеся с началом перестройки. Я тогда очень политизировался, хотелось чего-то более радикального. И в 88-м году я ушел из театра. Ткнулся в одно лито, в другое, но особо нигде не прижился. После Лоуэлла и «Бесплодной земли» Элиота в переводах Сергеева я увлекся свободным стихом, а в лито это совсем не приветствовалось. Тогда я уже разочаровался и в Вознесенском, и в Пастернаке, ориентировался больше на переводную поэзию, кино и авангардный джаз. В Ленинграде тогда проводился ежегодный фестиваль «Осенние ритмы», трио Ганелина приезжало, Чекасин устраивал перформансы в духе будущей «Поп-механики»… И в итоге меня занесло в лито свободного стиха при Доме писателей, его вел Эрих Шмитке, он потом уехал в Германию. И этот Шмитке рекомендовал меня на Конференцию молодых писателей Северо-Запада. Семинар, в котором участвовали Дмитрий Голынко и Всеволод Зельченко (помимо прочих), возглавлял Виктор Топоров. Мои стихи он забраковал («это не по-русски и вообще не поэзия»), зато посоветовал заниматься критикой, предложил написать обзор молодой поэзии для спецномера журнала «Звезда». Номер не вышел, но обзор я написал, он назывался «Сеть Индры» и начинался с цитаты из Ролана Барта – тогда как раз вышел сборник его работ по семиологии. На конференции познакомился с компанией поэтов немного старше меня – Арсеном Мирзаевым, Русланом Мироновым, Мишей Блазером, и они затащили меня и Голынко в Свободный университет, где Борис Останин возглавлял кафедру поэзии. Это был 89-й год. Другие кафедры курировали Тимур Новиков (искусство), Борис Юхананов (кино), Ольга Хрусталева (критика), братья Горошевские (театр). И вот с этого момента, с 89-го года, я отсчитываю свое профессиональное существование, потому что Останин нам очень резко вправил мозги. Он приносил на занятия самиздатские журналы, читал нам Айги, Парщикова, Ольгу Седакову… Приглашал с лекциями и чтениями Драгомощенко, Горнона, Васю Кондратьева, Сережу Тимофеева из Риги. Ну, тогда у меня просто крыша поехала, целый пласт культуры открылся, о которой я вообще ничего не знал. Это была по-настоящему современная поэзия, причем на русском, а не переводная. Но самое главное – Останин с нами занимался не просто чтением стихов, а их углубленным прочтением, close reading. Мы, конечно, как все начинающие, ждали от него каких-то советов, критики по поводу наших собственных текстов. Он неуклонно этого избегал. Зато приносил стихи Жданова, Кривулина, Елены Шварц и подробно их анализировал. Причем параллельно мы обсуждали герменевтику, психоанализ, семиотику, теории Юнга, Башляра, Деррида… то есть он предлагал нам еще и концептуальный инструментарий. Занятия проходили раз в неделю в Центральном лектории на Литейном проспекте, потом мы перебрались в Дом писателей, потому что в 90-х лекторий стал требовать от нас арендную плату, начинался капитализм, а потом Дом писателей сгорел, и мы какое-то время продолжали встречаться на квартире у Миши Гамберга в доме Лидваля, на Рубинштейна. Там, кстати, Анатолий Барзах прочитал доклад «Ощущение тяжести…» о Мандельштаме, который произвел на меня сильнейшее впечатление. Это было чудесное время, время очень мощного профессионального роста. Собственно, примерно тогда же, на рубеже 80-90-х, я начал печататься и в самиздате («Сумерки», «Митин журнал»), и в новых изданиях («Сеанс», «Вестник новой литературы»). При этом продолжал работать в котельной и очень уютно себя там чувствовал. Ну, конечно, в 92-м году грянула нищета, я стал переводами и заказными статьями подрабатывать для каких-то нарождавшихся глянцевых журналов. Очень важно, что благодаря Останину и Свободному университету я подружился с Васей Кондратьевым и Аркадием Драгомощенко. Оба на меня очень сильно повлияли – и по-человечески, и в общекультурном смысле. Аркадий тогда был полон всевозможных проектов и идей, много где выступал, вел философский семинар в СПбГУ, участвовал в рождении галереи «Борей», которая моментально стала центром притяжения всех творческих сил Петербурга, не только художников. Я был им совершенно зачарован. Вообще самое начало 90-х было временем невероятного взрыва, неофициальная культура вышла из подполья, новые инициативы возникали как грибы после дождя, все казалось возможным. Следующая важная веха, о которой надо сказать, – это русско-французский поэтический фестиваль «10×10» в 93-м году. Первая его часть прошла в Петербурге, а вторая, в следующем году, – в Марселе. Это была моя первая заграница. До Марселя, правда, я еще побывал в Финляндии – с Курехиным, Шинкаревым, Кривулиным, Мишей Бергом. Но Финляндия, понятное дело, это не Марсель, а та же Карелия, только чище. Я настолько был оглушен Средиземноморьем, а потом Провансом и французскими Альпами, что как-то даже толком не прочувствовал Париж, хотя прожил там несколько дней. А осенью того же года попал в Америку по писательской программе International Writing Program в университете Айовы, отчасти тоже благодаря Аркадию и поездке в Финляндию. Там с нами был музыкальный критик Александр Кан, приятель Аркадия еще по «Клубу-81», на тот момент он подвизался культурным советником при Американском центре в Петербурге. И он услышал мои стихи в Финляндии и рекомендовал на эту программу. Это было чистое стечение обстоятельств, мне откровенно повезло, потому что через год-полтора Кан уже перебрался в Лондон на ВВС. Эта трехмесячная поездка (помимо Айовы я жил в Нью-Йорке и Сан-Франциско) сыграла огромную роль – я начал читать и переводить современную американскую поэзию. В Айову приезжали выступать Роберт Крили, Пол Остер, будущий нобелиат Кутзее, который читал отрывки из романа о Достоевском, выступала с лекциями о Гертруде Стайн, Витгенштейне и футуризме Мэрджори Перлофф… Какие-то знакомства образовались, интернациональные контакты. Открылся совершенно иной, параллельный мир, существующий на других скоростях. В какой-то момент английский стал менять мою психосоматику, структуры восприятия. Это как веселящий газ, чувство легкости невероятной, потому что перестает давить толща культурной памяти. Я вернулся как будто в страну мертвых, очень долго отходил. Несколько месяцев. Позднее, в конце 90-х, сразу после гибели Васи Кондратьева, у меня возник роман с одной чудесной американкой, я почти уже был готов остаться в Нью-Йорке, но что-то удержало. А искушение было страшное.
ГОРАЛИК Что удержало?
СКИДАН Ох, разное. Во-первых, тот же язык: я понимал, что мне надо будет переходить на английский, то есть начинать все сначала. По-другому я не мыслил, быть русским литератором в Америке казалось мне анахронизмом. А это минимум несколько лет, в течение которых надо же на что-то существовать. На что? Зависеть от девушки – морально, экономически, – использовать ее, а потом, не дай бог, расстаться? Как-то гнусно. Если бы меня пригласил какой-нибудь университет, я бы, может, и решился. Во-вторых, Петербург, я все-таки очень привязан к Петербургу, да и к родителем, тогда еще бабушка была жива… И, может быть, меня еще Виктор Лапицкий удержал. Он знал эту американскую девушку и хорошо знал Нью-Йорк, он видел, как меня колбасит, и не прямо, а как-то за фляжкой виски в подворотне пробросом мне что-то такое дал понять про себя. Но соблазн начать новую жизнь был очень сильный. Причем не однажды. Сейчас, думаю, я уже как-то с этим справился.