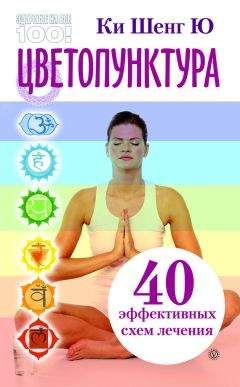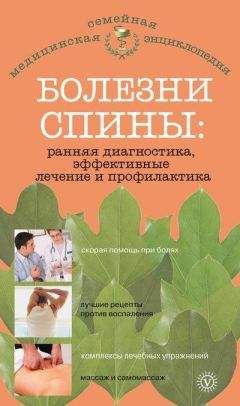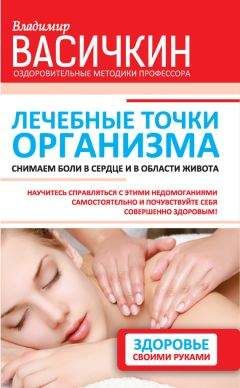Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Поведению, обоснованному биологическими предрасположениями или личными способностями и возможностями, угрожает относительность всех его ценностей и целей. На месте объективного смысла может оказаться более или менее налаженная система иллюзий, для жизни столь необходимых, что порой они продолжают работать даже на тех, кто уже знает об их иллюзорности.
Позднее в западной социологии XX века сложилась тенденция к пониманию человека как существа, управляемого не осознанным нравственным выбором, но разными механизмами, внушающими ему групповые ценности и нормы. Это означало отказ от сформулированной Достоевским этической альтернативы – либо абсолютные ценности, либо «все дозволено». В своем поведении человек может уклоняться от социальных норм, но ему не уйти от принятых его средой критериев, потому что они уже стали неотъемлемой оценочной формой его сознания.
А наряду с этим характерны попытки довести до своего рода обязательности субъективные этические установки. Такова, в частности, этика французского атеистического экзистенциализма, с ее концепцией человека, который сам предписывает себе нормы поведения и поступает так в силу своего душевного устройства.
В романе Камю «Посторонний» («L’étranger») жизнь дважды абсурдна: жизнь вообще и жизнь этого именно человека, который просыпается, завтракает, едет на службу, обедает, возвращается домой… и т. д. Но человек любит ее в бессмысленной разорванности и равноправии ее мгновений (никакой иерархии, потому что никаких общих ценностей). Он хочет жить – особенно приговоренный к казни. На этом кончается ход мысли в романе. Но в трактате своем «Миф о Сизифе» Камю совершает отсюда логически неправомерный переход к героическому самоутверждению. Счастлив Сизиф, бросающий вызов богам. К человеку-Сизифу со всех сторон сбегаются – истина, свобода, гордость, мужество в безнадежной борьбе. Откуда все это берется? Из чего следует, что это хорошо? Что означает вообще – хорошо или плохо? Мы, впрочем, знаем, откуда это пришло. Много уже написано о том, что этика французского экзистенциализма 1940-х годов отразила практику французского Сопротивления[254]. Это объяснение историческое, психологическое. Логическое же обоснование невозможно. Ибо все утверждаемое Сизифом могло бы стать ценностью только в связной иерархии некоего общего сознания, которое, не спросясь отдельного человека, формирует его жизненный опыт. Иначе, духовное богатство Сизифа – это лишь условие самоутверждения, система необходимых и потому сознательно принимаемых иллюзий.
Но вернемся к XIX веку. Даже беглый взгляд, выявляющий некоторые аспекты этических усилий второй половины века, показывает, как противоречива, пестра, сложна была нравственная проблематика, сквозь которую реалистический психологизм – русский и французский – прокладывал себе дорогу. Его создавали умы, отказавшиеся от религии или безвозвратно утратившие цельность и твердость веры. Колебания атеистической этики между критериями социальными и натуралистическими, между поисками нравственной обязательности и бесстрастным изучением механизмов оценки, между детерминизмом и личной ответственностью были питательной средой художественного анализа мотивов и типов поведения.
С концом романтического периода перенапряженность личного самосознания не уменьшилась – напротив того, она осложнилась скрупулезным выявлением подробностей. Атеистическое сознание отказывается от готовых решений вопросов жизни и смерти. Этическая проблематика тем самым мучительно обострилась, ценности пересматривались; психологический анализ становился все изощреннее, потому что теперь должна была быть раскрыта обусловленность каждого душевного движения – в процессе нравственных поисков.
Одно из величайших своих творений – «Смерть Ивана Ильича» Толстой создал уже в пору своих религиозных установок. Но замечательно, что все мы читаем «Смерть Ивана Ильича», внутренне обходя, «забывая» гармонический конец произведения, то радостное просветление, к которому Толстой приводит Ивана Ильича в последние его минуты. «Смерть Ивана Ильича» остается психологическим вскрытием безрелигиозного сознания XIX века, и написать эту повесть мог только человек, прошедший тот опыт неверия, который изображен Толстым в «Анне Карениной», в «Исповеди».
Этическая дифференциация свойственна реализму – столь же неотъемлемо, как дифференциация характеров, языка и проч. Вместо суммарной модели поведения, обоснованной религиозным или метафизическим пониманием души, – многообразные, переменные критерии, складывающиеся исторически, определяемые социально. Нестабильность ценностных критериев, затрудненность их обоснования совмещалась с необходимостью этих критериев, без которых никакая социальная деятельность вообще невозможна. Неоднократно отмечалось противоречие между резко оценочными суждениями великих французских романистов второй половины XIX века и догмой натуралистической объективности, бесстрастия. Но противоречие здесь, в сущности, мнимое. Никто из реалистов XIX века никогда не проповедовал этический нигилизм. Речь шла не об отношении писателя к жизненным фактам, но о способе их изображения, который и должен был быть объективным, «бесстрастным»[255], то есть предоставляющим читателю самому делать выводы из оценочных возможностей, заложенных писателем в его произведение. Второе издание «Терезы Ранен» Золя вышло с эпиграфом из Тэна: «Пороки и добродетели – такие же неизбежные результаты социальной жизни, как купорос и сахар – продукты химических процессов». Однако и вдохновитель позитивизма Тэн сохранил в своей вызывающей формуле категории порока и добродетели. Он вовсе не объявляет факты этически безразличными, но говорит о способе изучения их генезиса и причинно-следственных связей. Позднее, в «Экспериментальном романе», Золя назвал писателей-натуралистов будущими «хозяевами добра и зла».
На позитивистской почве даже самые большие умы не могли избежать эклектичности этических обоснований. Гуманистические критерии, принятые без проверки и без ответа на роковой вопрос о причинах их обязательности, эволюционная, наследственно воспитуемая нравственность Спенсера, шопенгауэровская мораль сострадания – все это сочеталось между собой и сочеталось с другими ценностями, эстетическими, познавательными, определявшими поведение и потому получавшими этический смысл. Для Флобера, например, это – творчество и научное познание истины, стоящее того, чтобы пожертвовать ему всем остальным.
Среди скрещивающихся, колеблющихся социальных и моральных критериев оценки роман второй половины XIX века решал задачи анализа душевной жизни; в частности, одну из главных социально-психологических задач – как совместить детерминизм с фактом вины и ответственности человека? Вопрос о свободе воли, над которым веками работала философская, теологическая, научная мысль, имел и свой художественный аспект. Человек физиологически и социально обусловлен, его характер, его поведение есть результат уходящего в бесконечность причинно-следственного ряда. Поэтому человек не виноват, вина и ответственность переносятся на среду. Но ведь и среда исторически обусловлена, следовательно, как бы не виновата. И уж тем паче не виновата история. Эта логика не могла быть, однако, логикой художественного творчества. Персонаж писателей-детерминистов подлежит суду и оценке, как и живой человек, и по той же причине: по невозможности какой бы то ни было духовной жизни и практической деятельности без убежденности людей в том, что им доступен свободный – пусть ограниченный обстоятельствами – выбор своих поступков. Человек не может действовать, то есть жить, не полагая себя свободным. Без этой рабочей гипотезы и литература, исследующая его душевную жизнь, не может делать свое дело. В отличие от механистического, биологического детерминизма, детерминизм марксистский признает этот выбор поведения – акт общественно обусловленного сознания.
Для натуралистической литературы, отчасти для школы Флобера, концентратом социального зла является среда. Но среда состоит из людей и познается через человека, который и есть частица этого зла. Пассивный ли он его носитель или активная злая сила? Это решалось по-разному. Преобладала гуманистическая тенденция снимать ответственность с угнетенных и слабых и оставлять ее за угнетателями, вообще за сильными мира сего, – хотя детерминированы и угнетатели. Мопассановские крестьяне не виноваты в жестоких и уродливых чертах своего быта, но этого никак нельзя сказать о мопассановских буржуа – от «честных мерзавцев», изображенных в раннем рассказе «Пышка», до омерзительного мужа героини романа «Жизнь», до торжествующего подлеца Дюруа («Милый друг»). Дюруа виноват. Это убеждение читатель не привносит от себя; оно задано ему самой структурой романа – расстановкой его оценочных акцентов.