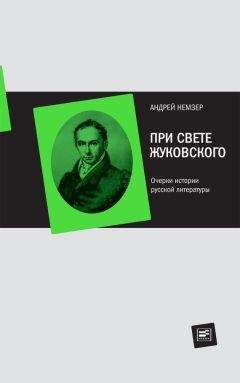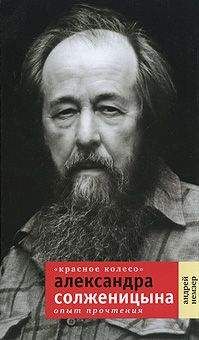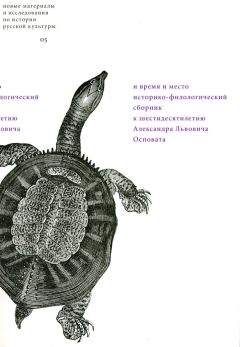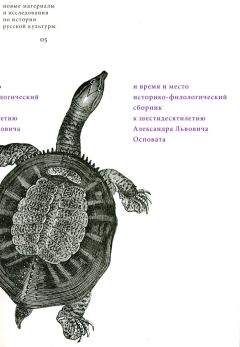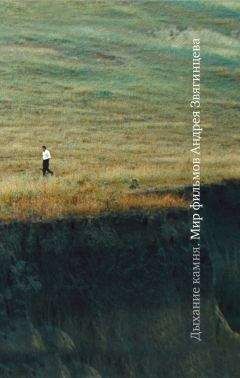Коллектив авторов - Замечательное шестидесятилетие. Ко дню рождения Андрея Немзера. Том 1
Поскольку роман Некрасова так и не был закончен и мы не знаем финала сюжета о путешествии Грачова и Тростникова, трудно рассуждать о прагматике отсылок к повести Соллогуба в целом. Можно предполагать, впрочем, что «вышивание» собственного сюжета по канве «Тарантаса» могло стать одной из причин, побудивших Некрасова бросить роман в 1855 году. К прозе он более не возвращался.
ЛИТЕРАТУРА
Библиотека Некрасова: Ашукин Н. Библиотека Некрасова // Литературное наследство. Т. 53/54. М., 1949. С. 359—432.
Вацуро 1980: Вацуро В. Э. Один из источников «Огородника» // Некрасовский сборник. Вып. VII. Л., 1980.
Вацуро 2005: Вацуро В. Э. Беллетристика Владимира Соллогуба [1977] // В. Э. Вацуро: материалы к биографии / Сост. Т. М. Селезнева, В. М. Маркович. М., 2005. С. 251—270.
Гуковский 1931: Гуковский Г. А. Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы 40-х годов // Жизнь и похождения Тихона Тростникова. Новонайденная рукопись Некрасова. М.; Л., 1931.
Зимина 1939: Зимина А. Некрасов-беллетрист // Творчество Некрасова. Сб. статей под ред. А. М. Еголина. М. (=Труды Моск. ин-та истории, философии и лит., т. 3).М., 1939.
Карамыслова 1979: Карамыслова О. Образ автора-повествователя в романе Некрасова «Тонкий человек» // Некрасов и его время. Вып. 4. Калининград, 1979.
Карамыслова 1980: Карамыслова О. О жанре романа Некрасова «Тонкий человек» // Некрасов и его время. Вып. 5. Калининград, 1980.
Мостовская 1988: Мостовская Н. Н. Пародия в прозе Некрасова (сатирическое мастерство; полемика) // Некрасовский сборник. Л., 1988. Вып. IX. С. 54—68.
Мостовская 1998: Мостовская Н. Н. Некрасов и Жорж Санд // Некрасовский сборник. XI – XII. СПб., 1998. С. 105—113.
Некрасов: Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем в 15 томах. Л.-СПб., 1980—2000.
Немзер 1982: В. А. Соллогуб и его главная книга // Соллогуб В. А. Тарантас М: Книга, 1982.
Немзер 2013: Немзер А. С. Быть так! Спасибо и за то: О прозе и жизни графа Владимира Соллогуба // Немзер А. С. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013. С. 397—425.
Самарин 2013: Самарин Ю. Ф. Собр. соч. в 5 т. СПб., 2013. Т. 1.
Соллогуб 1983: Соллогуб В. А. Избранная проза. М., 1983.
Чуковский 1928: Некрасов Н. Тонкий человек и другие неизданные произведения. Собрал и пояснил Корней Чуковский. М., 1928.
Шпилевая 2006: Шпилевая Г. Динамика прозы Н. А. Некрасова. Воронеж, 2006.
Михаил Велижев
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва
Чаадаев и Чацкий: безумие и комедийная интрига в «Горе от ума»41
Объявление Чаадаева сумасшедшим в 1836 г. после публикации первого «Философического письма» сразу же вызвало множество откликов (см.: [Велижев 2009: 18—21]). Многие свидетели произошедшего поспешили радостно согласиться с таким приговором, другие, наоборот, лично засвидетельствовали Чаадаеву свое сочувствие. Синхронная реакция современников на появление чаадаевской статьи в журнале «Телескоп» представляет определенный интерес и позволяет сделать ряд выводов о том, на каком историческом фоне воспринималось «безумие» Чаадаева. При просмотре отзывов о чаадаевском деле бросается в глаза одна деталь: в источниках отсутствуют «литературные» аллюзии, позволявшие определенным образом истолковать конфликт. В частности, пренебрежение литературными моделями поведения кажется по меньшей мере странным в свете того обстоятельства, что Чаадаев мог служить одним из прототипов «мнимого безумца» Александра Чацкого. Так, единственное известное нам упоминание комедии Грибоедова в связи с судьбой Чаадаева содержится в позднем стихотворении Ф. Н. Глинки «Петр Яковлевич Чеадаев (человек памятный Москве)» [Глинка 1985: 271].
Вплоть до настоящего времени «помешательство» Чацкого, как правило, интерпретировалось критиками и исследователями в двух перспективах – литературной и политической. Еще М. А. Дмитриев в одной из первых рецензий на «Горе от ума» уподобил комедию философскому роману К. М. Виланда «История абдеритов»42. Действительно, объявление Демокрита умалишенным его невежественными согражданами-абдеритами типологически напоминает коллизию «Горе от ума». Однако в этом случае фокус интерпретации эпизода с мнимым безумием Чацкого значительно смещается: в комедийный сюжет входит проблематика сатирического и философского романа и нагружает противостояние между «москвичами» и Чацким дополнительными смыслами, окончательно превращая его в конфликт философско-мировоззренческий.
Вторая перспектива вводит в комедию отчетливо политические коннотации – так, Чацкий становится своего рода провозвестником общественного раскола, а его поведение – значимым симптомом будущего выступления декабристов. При этом московское общество отождествляется с крепостнической Россией в целом, а монологи главного героя получают злободневное политическое истолкование. Наиболее яркое воплощение эта позиция нашла в труде М. В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы». Нечкина отвергла возможность чисто литературной природы мнимого безумия Чацкого (в частности, заимствования из Виланда), равно как и гипотезу о новаторстве Грибоедова при разработке сюжета. Исследователь уверенно предположила, что на деле речь шла о прямой отсылке Грибоедова к случаям из истории александровской эпохи – эпизодам из биографии В. К. Кюхельбекера, Ф. Н. Глинки и, наконец, самого Грибоедова, самостоятельность и оппозиционность позиции которых воспринимались обществом и властями как проявление безумия [Нечкина 1977: 407—413]43. Сюда же семантически примыкает и «клевета» против Чацкого, подсвеченная параллелью с «Севильским цирюльником» Бомарше и подробно интерпретированная в классической работе Ю. Н. Тынянова [Тынянов 1946: 168—171].
Точка зрения о том, что прототипом Чацкого или Чадского был Чаадаев, базируется, строго говоря, на двух аргументах: созвучии фамилий и ироническом отзыве еще не читавшего комедии Пушкина в письме Вяземскому от 1—8 декабря 1823 г.: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны» [Пушкин 1937: 81]44. Пушкин напоминал Вяземскому об обстоятельствах отставки Чаадаева, ушедшего со службы вследствие неосторожных высказываний в письме к тетке А. М. Щербатовой в марте 1821 г. и затем, в июле 1823 г., отправившегося за границу (см.: [Осповат 2010]). Несомненно, эту гипотезу ретроспективно укрепляло чаадаевское дело 1836 г. Грибоедов своеобразным образом «провидел» судьбу Чаадаева – в этом сходились и Тынянов, и Нечкина. Так, Тынянов писал: «Странный и вряд ли случайно перекликающийся с „Горем от ума“ эпизод произошел только в 1836 г.: после напечатания Чаадаевым „Философического письма“ он был объявлен сумасшедшим… Дело Чаадаева носило характер политический» [Тынянов 1946: 171]45. Разумеется, речь шла не только о таинственном совпадении судеб, но и об осязаемой тенденции политической жизни в России первой четверти XIX века, где лучшие мыслители рано или поздно объявлялись умалишенными.
Мы не беремся радикально оспаривать гипотезу о политической подоплеке сюжета с безумием Чацкого: в конце концов, знакомство Грибоедова с подлинными случаями политических дел, увенчанных вердиктом «помешан в уме», кажется более чем возможным. Однако одно обстоятельство все-таки ослабляет гипотезу о явной параллели между Чацким и Чаадаевым: как мы уже отметили, в 1836 г. ни одному человеку – ни защитникам, ни оппонентам Чаадаева – не пришло в голову сравнить решение, вынесенное монархом автору первого «Философического письма», с клеветой на Чацкого46: при том, что большинству современников комедия «Горе от ума», шедшая на сцене, частично опубликованная и разошедшаяся во множестве рукописных копий (см.: [Пиксанов 1969]), была прекрасно известна. К тому же проблематика оригинальной русской комедии были актуализирована весной 1836 г. в связи с постановками гоголевского «Ревизора». «Первые разговоры о трагической сути „Горе от ума“ начались лишь во второй половине XIX столетия» [Зорин 1977: 73]47: этот тезис заставляет предположить, что в эпоху Грибоедова и Чаадаева читатели могли усматривать в мнимом безумии Чацкого иной, не политический смысл.
Если Тынянов предлагал видеть «комичность» как «средство трагичного», а «комедию» считать в данном случае «видом трагедии», то наша гипотеза состоит в обратном: «комичность» следует рассматривать и как «средство комичного», т.е. необходимо поместить «Горе от ума» и эпизод с безумием Чацкого в контекст комедийных сюжетов XVIII – первой четверти XIX в., прежде всего, во французской оригинальной и русской переводной комедии. Как показывает в своей работе А. Л. Зорин, Грибоедов «зеркально переворачивает привычную комедийную ситуацию», обманывая тем самым читательское и зрительское ожидание [Зорин 1977: 78]. Необходимо определить, в чем состояла та «шутка», которую сыграла с Чацким София («А, Чацкий! любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе примерить?» [Грибоедов 1969: 83]), попытаться ответить на вопрос о том, почему мнимое сумасшествие Чацкого могло казаться современникам Грибоедова не столько трагическим, сколько смешным?