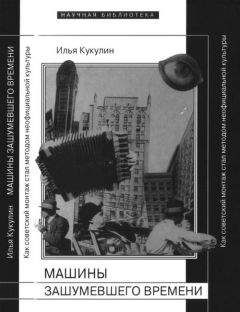Нина Перлина - Тексты-картины и экфразисы в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Согласно житию Марии Египетской, ее пустынножительство, борение с похотью и бесом гордыни приняли характер жестокой самоказни и убили бы отшельницу, если бы Господь не ниспослал ей встречу с христианским подвижником иноком Зосимой. Встреча с Зосимой как поворотный пункт на пути от покаянного самонаказания к спасению своей души через спасение ближнего и приятие от него милостивого прощения, благословения и любви – устойчивый компонент иконографии Марии Египетской и сюжет, разработанный многими поэтами и художниками средневековья и Возрождения[52], Воспоминания об этих творениях духовных писателей и живописцев отразились в картинах сновидений Мышкина, когда не Настасья Филипповна (которую он словно боится назвать по имени), а «эта женщина» является ему, но «у ней было теперь как будто совсем не такое лицо, какое он всегда знал… В этом лице было столько страдания и ужасу, что казалось – это была страшная преступница» (352)[53]. Как межвидовая цитата-транспозиция, экфразис портрета и внешности выступают здесь в сочетании с прямыми и скрытыми словесными цитатами. Экфразисы как переживания происходящего и изъяснение глубинного смысла явления через скрытое словесное цитирование сливаются в единстве многопланного повествования, помогают понять и ре-презентировать идеальное, искаженное жестокостью, сладострастнием или болью страдания, возвращают восприятию красоты благородство, внутреннее достоинство смиренности.
Одни и те же зрительные образы и ассоциации в рассказах и размышлениях князя о несчастной страдалице Мари и о Настасье Филипповне сопоставлены и истолкованы по принципу контраста. Контраст, разумеется, не в том, что одна – красавица, а другая некрасива. Делая эту оговорку о внешности Мари, князь изымает ее из числа соблазнительниц и помещает среди жалких жертв разврата. Ее история поначалу представляется сестрицам Епанчиным как поучительная иллюстрация к собранию притч Душеполезного чтения: «заблудшая овца, возвратившаяся в стадо свое»; «кающаяся грешница, омывающая ноги страждущей» (старой, больной, но неумолимо жестокой матери) – ср. «Первый без греха, брось на нее камень» и «Омовение ног». Но Мышкин, целуя и жалея Мари и потом рассказывая об этом своим слушательницам, не боялся показаться смешным проповедником хрестоматийных истин. Напротив, как он сам в этом убедился, его слова и смешные поступки возвратили швейцарских школьников к их природной доброте, научили их братской любви. И в салоне Епанчиных над ним тоже перестают смеяться. Его словесные описания картин недавнего прошлого оказывают на слушательниц эмоциональное и этическое воздействие в духе учения Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии и дают им возможность понять и почувствовать, что их собеседник – не «совершенный ребенок» (как его рекомендовал супруге генерал, 44), не «философ», имеющий мысль учить их квиетизму (как думают Аделаида и Аглая, 51, 52), а человек, которого, по словам генеральши, именно для нее «Бог привел в Петербург из Швейцарии» (70). Рассказы князя и изображенные им картины швейцарской жизни воздействуют на генеральшу точно так, как об этом писал Шиллер (чьего трактата она, разумеется, не читала):
Бывают в нашей жизни минуты, когда наше растроганное внимание и особенную нашу любовь мы отдаем природе в образе растений, минералов, животных, ландшафтов, или же природе человеческой в образе детей, простых сельских нравов, первобытной жизни, – и не потому, что они приятны нашим чувствам, не потому, что они отвечают склонностям нашего разума или вкуса (зачастую они противоречат и тому и другому), но лишь потому, что они – природа… Что могло бы дать им право на нашу любовь? Мы любим не их, мы любим в них идею, представленную ими. Мы любим в них… бытие по своему собственному закону, внутреннюю необходимость, вечное единство с самим собой…
Они суть то, чем были мы; они суть то, чем мы вновь должны стать. Подобно им, мы были природой, и наша культура, путями разума и свободы, должна нас возвратить к природе. Они, следовательно, суть образы нашего утраченного детства, которое навеки останется нам дороже всего; поэтому они исполняют нас некой грустью. Но они также образы нашего высшего завершения в идеале; поэтому они порождают в нас высокое волнение. Однако их совершенство не есть их заслуга, потому что оно – не следствие их выбора. Вот почему они дают нам совсем особую радость, являясь для нас образцом, без того, чтобы нас этим пристыдить[54].
Генеральша искренно радуется, когда князь, всматриваясь в ее лицо, замечает: «Вы совершенный ребенок во всем, во всем». Она с особым удовлетворением добавляет: «Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим и очень рада; как две капли воды» (65). Она первой пристыдила дочерей за их желание свысока протежировать князя «как бедненького», первой распознала в его детской наивности и в чистой любви к Мари «высшее благородное свойство души» положительно прекрасной личности[55]. В таком сочетании экфразисы картин, истолкования поступков героя в духе евангельских притч и искреннее ожидание преобразующего воздействия проповеди на душу окажется заданной парадигмой для повествования не только в этом романе, но и в других текстах Достоевского («Сон смешного человека», жизненный опыт старца Зосимы и раннего человеколюбца Алеши Карамазова).
Часть 2. Встречи с лицами и портретами
1. Портрет Гани Иволгина и культурная модель его социального образа
За словом-высказыванием «взгляд» закреплено как обобщенно-абстрактное (на общий взгляд, с его-её-их, нашей точки зрения), так и индивидуально конкретное оценочное значение (на мой взгляд, с моей точки зрения). А объем и глубина понятийного содержания зависит от того, как воспринимается созерцателем физически видимый его глазу объект Если объектом созерцания оказывается другой субъект (человек, его внешность или портрет) об этом другом как объекте созерцания в чувствах и сознании созерцающего возникают определенные представления более или менее обобщающего характера. При этом созерцатель и другой (т. е. созерцаемый субъект) могут обмениваться взглядами. Лексема «взгляд» становится узлом, от которого расходятся и к которому сходятся пучки полисемичных обозначений. Взгляд обозначает способность с помощью движения зрачка увидеть и опознать лицо того, на кого смотрит глаз; взгляд становится воззрением на стоящее перед глазами; взгляд, охватывающий множество разнородных объектов окружающего, составляет мировосприятие, а охват всех сторон окружающего пространства – физического и умозрительного – создает мировоззрение.
На грани непосредственно открытого глазу и многопланного мировоззренческого пространства происходит изменение и обогащение содержательной наполненности понятия «взгляд». Признак психофизического своеобразия портретируемого, его взгляд улавливается так, что дает возможность созерцателю или мастеру-изобразителю отмечать и фиксировать встречный взгляд в его объектно-субъектном значении («взгляд-воззрение другого, взгляд другого на других»). Оставаясь «вещью в себе» (мой взгляд, моя точка зрения), взгляд становится «вещью для другого». Взгляд портретируемого встречается со взглядом творца и становится именно тем, что мастер, создатель работы, глядя на модель/натуру, со своей стороны, «на свой взгляд», открывает в лице портретируемого как главную черту и характеристику лица и личности этого человека. Если каждому смысловому плану представлений о взглядах смотрящего и видящего дать словесное выражение и объяснить, что они значат, о чем говорят, – мы окажемся на территории экфразиса. Такую спираль интерпретаций взгляда, способности видеть и путем индивидуального ви́дения фиксировать увиденное в новом создании, Марри Кригер обозначил неологизмом once about-ness («еще раз о <том же, Н.П.>»), истолковав смысл своего неологизма через парафраз из знаменитого обмена репликами между Полонием и Гамлетом: Что вы читаете, мой принц? / – Слова, слова, слова[56].
Специфическая манера индивида бросать взгляд /смотреть на окружающее и определенным образом видеть мир; взгляд как воззрение на известную и другим проблему, взгляд-высказывание («еще раз о»), взгляд на мир и выражение индивидуального представления о себе, в котором также читается отношение к миру других, соединяет в себе характерные признаки миропредставления, мирови́дения, мировосприятия и мировоззрения. Лексема «ви́дение» обозначает эмоциональное или умственное представление о предмете, а в случае, когда речь идет о словесно-изобразите льном искусстве образное и умозрительное восприятие и отношение автора-создателя произведения к изображаемому, к субъекту словесного описания или объекту зрительного изображения. В практике словесного творчества экфразис возникает там и тогда, когда индивидуальные авторы, создатели работ, каждый со своей стороны, включают в своё ви́дение или получают для своего творческого ви́дения эмоциональные импульсы, порожденные непосредственным контактом с объектом. Автор словесного изображения, живописец, фотограф – каждый из них не просто смотрит, те. бросает и задерживает свой взгляд на объекте, а видит и узнает в объекте описания, в природе, в нату рщике, натурщице, в «модели» именно то, что своим ви́дением, с помощью своих средств передаст потом в словесном или живописно-графическом творении, в портрете. Если дискурсивную функцию и место экфразиса в композиционной структуре текстуального целого сравнивать с картиной «остранения», то, в зависимости от созерцаемого объекта, главным назначением экфразиса как повествовательного и экспрессивно-импрессивного приема будет именно устранение остранения, «фамилиаризация», установка на осмысление и понимание непостигаемого и словесно невыразимого[57], «Изобразите лицо приговоренного к смертной казни, – предлагает Мышкин и продолжает о приговоренном: «Тут он взглянул в мою сторону, я поглядел на его лицо и всё понял» (54–55).