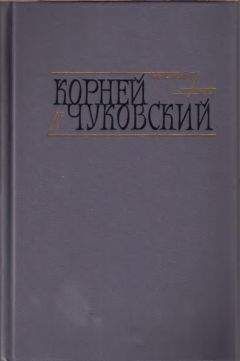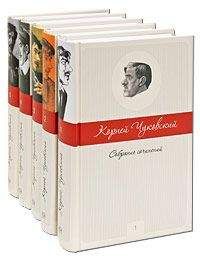Корней Чуковский - Высокое искусство
В одном из рассказов Киплинга высокопарный и напыщенный немец говорит про свою обезьяну, что «в ее Космосе слишком много Эго». Про некоторых переводчиков можно сказать то же самое. Между тем современный читатель, как человек глубоко научной культуры, все настоятельнее требует от них всяческого подавления в себе их чрезмерного Эго. Впрочем, это требование раздается издавна.
«В переводе из Гёте, – говорил Белинский, – мы хотим видеть Гёте, а не его переводчика; если б сам Пушкин взялся переводить Гёте, мы и от него потребовали бы, чтоб он показал нам Гёте, а не себя»[45].
То же требование предъявил к переводчикам и Гоголь. «Переводчик поступил так, – писал он об одном переводе, – что его не видишь: он превратился в такое прозрачное „стекло“, что кажется, как бы нет стекла»[46].
Это не так-то легко. Этому нужно учиться. Здесь нужна большая тренировка.
Здесь самой высокой добродетелью является дисциплина ограничения своих сочувствий и вкусов.
Знаменитый переводчик «Илиады» Н.И. Гнедич указывает, что величайшая трудность, предстоящая переводчику древнего поэта, есть «беспрерывная борьба с собственным духом, с собственною внутреннею силою, которых свободу должно беспрестанно обуздывать»[47].
«Беспрерывная борьба с собственным духом», преодоление своей личной эстетики – обязанность всех переводчиков, особенно тех, которые переводят великих поэтов.
В этом случае нужно возлюбить переводимого автора больше себя самого и беззаветно, самозабвенно служить воплощению его мыслей и образов, проявляя свое эго только в этом служении, а отнюдь не в навязывании подлиннику собственных своих вкусов и чувств. Казалось бы, нетрудное дело – переводить того или иного писателя, не украшая, не улучшая его, а между тем лишь путем очень долгого искуса переводчик учится подавлять в себе тяготение к личному творчеству, чтобы стать верным и честным товарищем, а не беспардонным хозяином переводимого автора. Когда-то я перевел Уолта Уитмена и с той поры для каждого нового издания заново ремонтирую свои переводы: почти весь ремонт состоит в том, что я тщательно выбрасываю те словесные узоры и орнаменты, которые я внес по неопытности в первую редакцию своего перевода. Только путем долгих, многолетних усилий я постепенно приближаюсь к той «грубости», которой отличается подлинник. Боюсь, что, несмотря на все старания, мне до сих пор не удалось передать в переводе всю «дикую неряшливость» оригинала, ибо чрезвычайно легко писать лучше, изящнее Уитмена, но очень трудно писать так же «плохо», как он.
Здесь опять вспоминается Гнедич.
«Очень легко, – писал он, – украсить, а лучше сказать – подкрасить стих Гомера краскою нашей палитры, и он покажется щеголеватее, пышнее, лучше для нашего вкуса; но несравненно труднее сохранить его гомерическим, как он есть, ни хуже, ни лучше. Вот обязанность переводчика, и труд, кто его испытал, не легкий. Квинтилиан понимал его: facilius est plus facere, quam idem: легче сделать более, нежели то же»[48].
Вследствие этого Гнедич просил читателей «не осуждать, если какой-либо оборот или выражение покажется странным, необыкновенным, но прежде… сверить с подлинником»[49].
Такова же должна быть просьба к читателю со стороны всякого переводчика.
Подобно тому как хороший актер всего ярче проявит свою индивидуальность в том случае, если он весь без остатка перевоплотится в изображаемого им Фальстафа, Хлестакова или Чацкого, выполняя каждым своим жестом священную для него волю драматурга, так и хороший переводчик раскрывает свою личность во всей полноте именно тогда, когда целиком подчиняет ее воле переводимого им Бальзака, Флобера, Золя, Хемингуэя, Сэлинджера, Джойса или Кафки.
Такое самообуздание переводчиков считалось обязательным далеко не всегда. В пушкинские, например, времена в журналах постоянно печаталось, что «переводить поэтов на родимый язык значит или заимствовать основную мысль и украсить оную богатством собственного наречия (курсив мой. – К.Ч.), или, постигая силу пиитических выражений, передавать оные с верностию на своем языке»[50]. Считалось вполне законным «украшать» переводимые тексты «богатствами собственного наречия», так как в то время цели перевода были совершенно иные. Но теперь время украшательных переводов прошло. Никаких преднамеренных отклонений от переводимого текста наша эпоха не допустит уже потому, что ее отношение к литературам всех стран и народов раньше всего познавательное.
И нечего опасаться того, что такой перевод будто бы обезличит переводчика и лишит его возможности проявить свой творческий талант. Этого еще никогда не бывало. Если переводчик талантлив, воля автора не сковывает, а, напротив, окрыляет его. Искусство переводчика, как и искусство актера, находится в полной зависимости от материала. Подобно тому как высшее достижение актерского творчества – не в отклонении от воли драматурга, а в слиянии с ней, в полном подчинении ей, так же и искусство переводчика, в высших своих достижениях, заключается в слиянии с волей автора.
Многим это кажется спорным. Профессор Ф.Д. Батюшков, полемизируя со мною, писал:
«Переводчик не может быть уподоблен актеру… Актер, правда, подчинен замыслу автора. Но в каждом поэтическом замысле имеется ряд возможностей, и артист творит одну из этих возможностей. Отелло – Росси, Отелло – Сальвини, Отелло – Ольридж, Отелло – Цаккони и т.д. – это все разные Отелло на канве замысла Шекспира. А сколько мы знаем Гамлетов, королей Лиров и т.д., и т.д., и т.д. Дузе создала совсем другую Маргариту Готье, чем Сара Бернар, и обе возможны, жизненны, каждая по-своему. Переводчик не может пользоваться такой свободой при „воссоздании текста“. Он должен воспроизвести то, что дано. Актер, воплощая, имеет перед собой возможности открывать новое; переводчик, как и филолог, познает познанное[51]».
Это возражение профессора Ф. Батюшкова оказывается несостоятельным при первом же соприкосновении с фактами.
Разве «Слово о полку Игореве» не было переведено сорока пятью переводчиками на сорок пять различных ладов? Разве в каждом из этих сорока пяти не отразилась творческая личность переводчика со всеми ее индивидуальными качествами в той же мере, в какой отражается в каждой роли творческая личность актера? Подобно тому как существует Отелло – Росси, Отелло – Сальвини, Отелло – Ольридж, Отелло – Дальский, Отелло – Остужев, Отелло – Папазян и т.д., существует «Слово о полку Игореве» Ивана Новикова, «Слово о полку Игореве» Николая Заболоцкого и т.д., и т.д. Все эти поэты, казалось бы, «познавали познанное» другими поэтами, но каждому «познанное» раскрывалось по-новому, иными своими чертами.
Сколько мы знаем переводов Шота Руставели, и ни один перевод ни в какой мере не похож на другие. И обусловлена была эта разница теми же самыми причинами, что и разница между различными воплощениями театрального образа: темпераментом, дарованием, культурной оснасткой каждого поэта-переводчика.
Так что возражения профессора Батюшкова еще сильнее утверждают истину, против которой он спорит.
И, конечно, советскому зрителю идеальным представляется тот даровитый актер, который весь, и голосом, и жестами, и фигурой, преобразится или в Ричарда III, или в Фальстафа, или в Хлестакова, или в Кречинского. А личность актера – будьте покойны! – выразится в его игре сама собой, помимо его желаний и усилий. Сознательно стремиться к такому выпячиванию своего я актер не должен ни при каких обстоятельствах.
То же и с переводчиками. Современному читателю наиболее дорог лишь тот из них, кто в своих переводах старается не заслонять своей личностью ни Гейне, ни Ронсара, ни Рильке.
С этим не желает согласиться поэт Леонид Мартынов. Ему кажется оскорбительной самая мысль о том, что он должен обуздывать свои личные пристрастия и вкусы. Превратиться в прозрачное стекло? Никогда! Обращаясь к тем, кого он до сих пор переводил так усердно и тщательно, Л. Мартынов теперь заявляет им с гордостью:
…в текст чужой свои вложил я ноты,
к чужим свои прибавил я грехи,
и в результате вдумчивой работы
я все ж модернизировал стихи.
И это верно, братья иностранцы;
хоть и внимаю вашим голосам,
но изгибаться, точно дама в танце,
как в данс-макабре или контрдансе,
передавать тончайшие нюансы
средневековья или Ренессанса –
в том преуспеть я не имею шанса,
я не могу, я существую сам!
Я не могу дословно и буквально
как попугай вам вторить какаду!
Пусть созданное вами гениально,
по-своему я все переведу,
и на меня жестокую облаву
затеет ополченье толмачей:
мол, тать в ночи, он исказил лукаво
значение классических речей.
Тут слышу я: – Дерзай! Имеешь право,
и в наше время этаких вещей
не избегали. Антокольский Павел
пусть поворчит, но это не беда.
Кто своего в чужое не добавил?
Так поступали всюду и всегда!
Любой из нас имеет основанье
добавить, беспристрастие храня,
в чужую скорбь свое негодованье,
в чужое тленье своего огня[52].
Эта декларация переводческих вольностей звучит очень гордо и даже заносчиво.