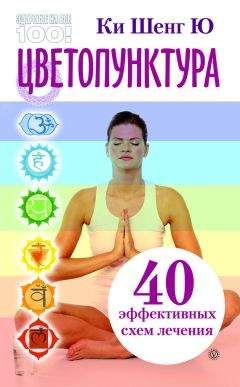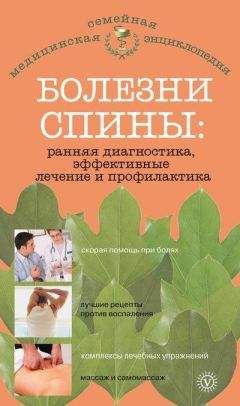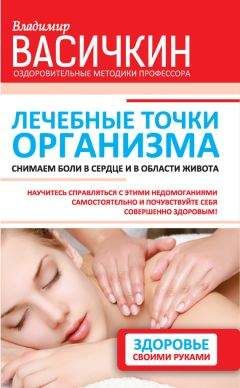Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Расчлененные элементы предмета вступили в «химическое соединение» (формулировка Пруста) с представлениями культурно-исторического ряда. Туалеты Одетты получают значение факта эпохи – ее эстетики и материальной культуры.
Пруст создал сам для себя модель метафорических изменений чувственно-конкретного – творчество вымышленного им художника Эльстира, воплощающее принципы импрессионистической и постимпрессионистической живописи. Так, во всей своей цветовой и предметной материальности описана картина Эльстира – гавань маленького городка. В то же время она описана как «метафора», как идея полного взаимопроникновения моря и суши в этом городе рыбаков и матросов. В пейзаже самого Пруста кувшинка, которую треплет течение реки, уподобляется неврастеникам (в частности, тетке Марселя – Леонии) или грешникам в Дантовом аду. Значение кувшинки – это метафорический узел, в котором психологический экскурс о маньяках сходится со столь характерными для Пруста культурными реминисценциями (Данте). Но предшествует этим соответствиям зримое, наблюденное изображение цветка: «Увлекаемый к одному из берегов, стебель его распрямлялся, удлинялся, вытягивался, достигал крайнего предела растяжения, затем струя снова подхватывала его, зеленый трос сворачивался и приводил бедное растение к его исходному пункту…» Но материальность Пруста не бывает бездумной. Это чувственность, всегда снятая интеллектуальной символикой.
Преображение вещей совершается у Пруста порою путем, в сущности, не метафорическим. «Два узорчатые купола деревенской церкви, конические, чешуйчатые, ячейчатые, в косых квадратиках, буро-желтые и шероховатые, словно два колоса», лучи солнца под яблоней, которые отец Марселя разрывал своей палкой, «но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными», подробно описанные капли дождя, из которых «каждая, держась своего места, привлекает к себе следующую за ней каплю…» – всюду здесь основной предмет остается самим собой (куполом, яблоней, каплей дождя). Они не иносказательны, но репрезентативны. Их символическое значение рождается из контекста, поскольку они принадлежат благословенным пейзажам «потерянного рая» Комбре («настоящий рай – это всегда потерянный рай» – краеугольная формула Пруста). И одинокий мак, выросший на откосе, «возвещает» Марселю «широкий простор, на котором волнами ходят хлеба и кудрявятся облака».
Идеи и общие законы Пруста питаются впечатлением. Пруст теоретически утверждал, что имеет дело не с впечатлением, а с воспоминанием; в этом часто видят особенность Пруста. Но это не так уж индивидуально. В искусстве впечатление всегда опосредствовано памятью и воображением. Пруст только сделал творческую память одной из основных философских и эстетических проблем своего романа; сделал ее предметом изображения.
Марсель, еще мальчик, потрясен первой встречей с Жильбертой. Он издали видит белокурую, рыжеватую девочку, с розовыми веснушками и черными глазами. Но в воспоминании Марселя «блеск ее глаз тотчас вставал… как ярко-лазурный, ибо она была блондинка; так что, если бы глаза ее не были такими черными – эта чернота наиболее поражала всякого, кто видел ее впервые, – я, может быть, не влюбился бы, как это случилось со мною, главным образом в ее голубые глаза»[234]. Столь мучительную в будущем любовь впервые приводит в движение характерно прустовский механизм: острое чувственное впечатление, переработанное идеей. Идее понадобилось, чтобы глаза были голубыми.
Изображая предсмертную болезнь и смерть бабушки Марселя, Пруст с большой силой исследует состояние жалости – жалости, которую Марсель и его мать стараются не обнаружить, даже не испытывать, не смея признаться себе в том, что они присутствуют при унижающем физическом разрушении любимого, почитаемого существа (у служанки Франсуазы, напротив того, искренняя привязанность к бабушке выражается потребностью жалеть и ужасаться). Жалость, которой так боится герой, не ограничивается фактом страдания; она, подобно искусству, работает подробностями – воспоминанием о беспомощной, седой голове в руках Франсуазы, решившей, что умирающую бабушку нужно причесать, о том, как бабушка снималась в большой шляпе с опущенными полями, чтобы внуку не осталось на память лицо, измененное болезнью; он же, не зная об этом, дал ей понять, что считает эту позу «ребяческим кокетством». Желания и страдания любви, муки жалости равно питаются впечатлением, приходящим из внешнего мира.
Неоднократно уже отмечалось, что прустовское изображение душевной жизни неоднородно, что показанный изнутри рассказчик и данные извне другие персонажи (за исключением отчасти Свана) существуют в разных категориях – социальной и внесоциальной.
Главный герой (рассказчик) – отпрыск очень определенно очерченной буржуазной среды, но сам он как бы освобожден от социальной обусловленности. Он освобожден, в сущности, и от характера. Его характер – только гипертрофия нервных реакций на любое воздействие, гипертрофия восприимчивости и интеллектуальной изощренности. Он поэтому наилучшее поле применения общих законов и внутреннего психологического анализа. Этот внутренний анализ принял у Пруста форму, необычайную по своей протяженности, непрерывности, скрупулезному нанизыванию одной психологической ситуации на другую. Но он не утратил традиции классического психологического анализа. Психологическое единство расчленяется, разносится по разным причинным рядам, складывается в новую структуру, со своей неожиданной логикой. Работают мнимые парадоксы, те самые, о которых говорил еще Руссо.
«Она (мать героя) не столько сожалела о моем отказе от дипломатии, сколько огорчалась моей приверженностью к литературе. „Да оставь, – воскликнул отец… – Он уже не ребенок… Он может отдать себе отчет в том, что составит счастье его жизни“. Слова отца, даровавшие мне свободу… очень огорчили меня в тот вечер… Теперь, подобно тому как автор пугается, видя, что его собственные мечтания, которым он не придавал цены, потому что не отделял их от себя, заставляют издателя выбирать бумагу, назначать шрифты, которые, может быть, слишком хороши для них, я задавал себе вопрос, является ли мое желание писать чем-то настолько значительным, чтобы мой отец по этому поводу выказывал такую доброту. Но главное… была мысль о том, что моя жизнь уже началась, более того, что последующее будет не особенно отличаться от предшествующего (тогда как до сих пор я считал, что стою на пороге моего еще не тронутого бытия, которое должно начаться только завтра утром). Другое, являвшееся, в сущности, не чем иным, как тем же подозрением в другой форме, была мысль, что я не стою вне Времени… Говоря обо мне „он уже не ребенок, вкусы его не переменятся“ и т. д., отец внезапно заставил меня взглянуть на себя самого во Времени и вызвал во мне такое же уныние, как если бы я был… одним из тех героев, о которых автор сообщает нам в конце романа равнодушным тоном, особенно жестоким: „Он все реже и реже покидает деревню. Он поселился здесь навсегда“». Психологический эпизод очень прустовский – с метафорой подбора бумаги и шрифтов, с обращением к литературе (герои прочитанных книг) и к большой, проходящей теме романа, теме времени. Но за всем этим мы узнаем классический механизм мнимого парадокса. Герой огорчился тогда, когда он должен был обрадоваться. Здесь разрушается наглядно прямая связь элементов душевного состояния, и расчлененные, возведенные к своим причинам элементы образуют новую группировку. Художественная структура здесь – объяснение одновременно общего закона и неповторимо единичной конкретности.
В разделе романа «Беглянка» Пруст анализирует механизмы забвения. Марсель очарован парком, в котором он некогда бывал с умершей Альбертиной. «Мне казалось, что причиной этого очарования было то, что я все так же любил Альбертину; тогда как истинная причина, напротив того, заключалась в том, что во мне разрасталось забвение, что воспоминание об Альбертине перестало для меня быть жестоким, то есть изменилось. Но пусть мы разбираемся в наших ощущениях – как мне казалось, я разбираюсь в причинах моей печали, – мы не в состоянии добраться до более отдаленного их значения. И подобно недомоганиям, о которых больные рассказывают врачу и благодаря которым он восходит к более глубоким, неведомым пациенту причинам болезни, – так и наши ощущения, наши идеи имеют только значение симптомов». Еще один характерный образец прустовского анализа: разложение элементарного отношения и сложение новой структуры, переход от единичного к общему закону, поддержанному метафорой (врач и пациент). И все это ориентировано на большие, проходящие через роман темы – времени, памяти, забвения.
Внутренний анализ сопровождает главного героя. Прочие персонажи даны извне, в пределах того, что мог знать рассказчик (принцип этот осуществляется, впрочем, не вполне последовательно), и даны в категориях социальных. Иногда они – производное сочетаний социального с биологическим, в частности, с сексуальной спецификой, определяющей их поведение.