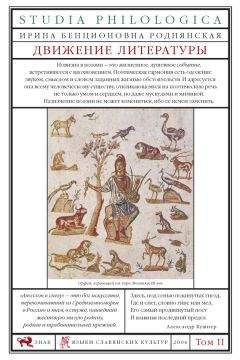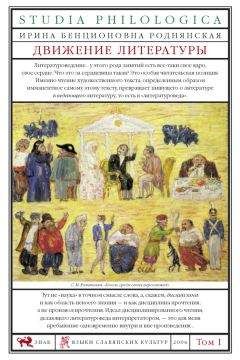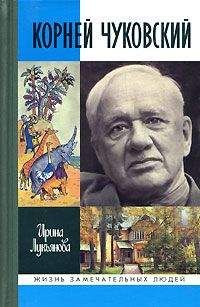Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Рационализм для обоих писателей – наследие старого мира, старой, внежизненной науки; и то, и другое отвергнуто простыми людьми, создающими новую технику чудес, новую науку дивных метаморфоз. И эти простые люди – чудесники и чудаки – естественные носители новой, неотчуждаемой власти, которая со временем перерастет в безвластие. Там, где есть Макар, не нужен властный идол государственности, как не нужен и «научный человек». В «Школе жуков» Заболоцкий, намечая формы какой-то архаической протомистерии, как бы приводит далекое будущее к первобытному матриархату: женщины, «толкачихи мира вперед», дают наказы «плотникам», «живописцам» и «каменщикам» – на этом витке техника окончательно обращается в ремесло, наука – в художественную магию, а государственность – в тесноту родовых связей.
Короче, перед нами утопическое противление той социальной реальности, которая сама выросла из гигантского утопического замысла, но уже четко обнаружила черты практически осуществляемой утопии – «антиутопии». Нечего и говорить, насколько неустойчива такая «оппозиция» и насколько ее двусмысленность влияет на всю тональность письма.
Да, это, пожалуй, «социалистический реализм». Социалистический – ибо мечта о всесторонней социализации жизни, за которой последует слом «косных» законов бытия, упование это бросает фантастический метафизический отсвет на живописуемый день сегодняшний. Реализм – потому что исходный материал жизни, «вещество существования» воссоздается средствами «наивного» искусства, по природе неспособного солгать, приемами «фактической истинности». Этот «социалистический реализм» жил один-единственный нестойкий исторический миг, когда его творцы могли балансируя, пройти по канату, по острию ножа между трагическим неприятием происходящего и соблазном перед ним капитулировать.
Искусство это, как мы уже знаем, было отвергнуто идеологическим заказчиком. Был отвергнут максимализм мечты, которая, отчасти через голову «ближней» классики, питалась культурной прапамятью апокрифа, сказки, жития с их «ненаучным» утопизмом. Читатель, не отрезанный от этих жанров духовно, не был бы так уж скандализован тем, что у Заболоцкого «один старик, сидя в овраге, объясняет философию собаке», а другой – «идею точных молотилок» коровам. Е. Усиевич («Под маской юродства» // Литературный критик, 1933, № 4) честит одного «тихим идиотом», а другого (полагая, что это ругательство) «блаженным» и не подозревает, что наткнулась на травестию легенд о Франциске Ассизском, на очевиднейший мотив фольклора и т. п.
Была отвергнута неизбежная двусмысленность тона, которая позволяла сращивать условное с достоверным, пафос с сомнением, оставляла за художником право на неокончательность оценки, а за «неправдоподобным» художественным построением достоинство мифа – а не обмана. «Рассказ Платонова, – писал Л. Авербах об “Усомнившемся Макаре”, – идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нем есть двусмысленность… Но наше время не терпит двусмысленности» («На литературном посту». 1929. № 21–22. С. 17). Включенное в хронику «Впрок» повествование о Филате-батраке, умершем от счастья, когда его на Пасху принимали в колхоз, дабы по-своему воскресить к новой жизни, – это сказочный гротеск. Мысль, выраженная в нем, – по сути, перелицованная, оторванная от корня религиозная мысль о новом рождении в духе – не могла быть передана в формах правдоподобия, ибо исходно превратна, непроизвольно пародийна, и только оставаясь сказкой, она не становится ложью. А в качестве «юродивой» сказки она даже трогательна: над мертвым Филатом «каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтобы они сохли, а не плакали» (подчеркнутое мной – удивительный пример «фактической истинности» посреди небыли!). Критикой, не переносящей двусмысленности, эпизод был интерпретирован как издевательский кулацкий выпад против «колхозного счастья».
Было отказано в праве на эстетически свободное обращение с массовыми клише, с образами массового политического сознания, на включение их в разномастный речевой коллаж (то, что сегодня с гораздо большей степенью едкости делает так называемый соцарт). «Плакатный журавль», «цветистая передовая из сугубо провинциальной газеты» в устах Тракториста – все это кажется критику «Торжества Земледелия» намеренным снижением высоких политических категорий, клеветой на них.
Было отторгнуто и самое правдоподобие, когда оно расходилось с «должным». Платонову ставилось в вину даже то, что его персонаж не сумел найти в городском магазине подходящих запчастей для ремонта «колхозного солнца». Описывая захолустную станцию и «бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболевал живот», автор тут же отмечает, как в контрасте с этой убогой действительностью «по стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда». Другими словами: «на плакатах роскошь, механизация, учащенное биение пульса новой общественной жизни, а в действительности – станционное убожество и непролазные проселочные дороги». Так негодует один из хулителей «Впрок» (П. Березов. Под маской // Пролетарский авангард. 1932. № 2). Знакомые песни: эту «правду факта», «кочку зрения», которая в убожестве своем будто бы расходится с «большой правдой», «народной правдой», наша критика не прекращала обличать до самого последнего времени.
Читая эти статьи, понимаешь, что в них уже проделана вся теоретическая работа по ликвидации искусства – даже лояльного, даже социалистического, но верного себе как искусству. На долю писательского съезда 1934 года и тем более на долю Жданова оставалось совершить совсем немногое. И. Макарьев свою статью о «Впрок» под названием «Клевета» («На литературном посту», 1931, № 18) открывает следующей воображаемой сценой. «Вы приехали в колхоз с секретарем райкома партии в разгар посевной кампании. Время горячее. Идет спешная подготовка семян, тягла, инвентаря, сбруи, организация бригад. Не спит ночи колхозный актив, организуя людей, подстегивая нерадивых, борясь с кулацкой агитацией. Не спит и приехавший с вами секретарь райкома, осунувшийся, похудевший, с воспаленными от степного ветра глазами. Так происходит в действительности. Но <…> если, к примеру, посмотреть на эту действительность глазами Андрея Платонова <…> то перед нами предстанут вещи удивительные и непостижимые». Строки эти кажутся мне в некотором роде историческими. Трудно, кажется, найти столь же ранний и притом столь же откровенный пример того, как критик-инструктор, сочинив типовой сценарий и директивно присвоив ему чин действительности, предлагает его писателям в качестве картинки «Раскрась сам», а малейший выход за пределы жирно обведенных контуров объявляет клеветой. Мы знаем, сколько в последующие десятилетия нашлось охотников раскрашивать эту картинку, не брезгуя счастливо найденными деталями, вплоть до бессонных секретарских ночей и воспаленных от степного ветра глаз.
… Так искусству-мутанту, единственно возможному, но и не возможному искусству социалистического реализма, было предпочтено неискусство-муляж, гротескной легенде – обман, выдающий себя за отражение жизни «в ее развитии». Иначе и быть не могло. Идеология не ужилась с неуправляемой областью духа. Именно и только тот «социалистический реализм», который тут же стал расцветать, был ей и нужен. Искусство, как заметил Терц, не боится диктатуры, ее прокрустова ложа; но загвоздка в том, что идеологическая диктатура боится искусства.
Ну, а вернувшись к тому, что предпослано в качестве эпиграфов, заключим, что авторов «Впрок» и «Торжества Земледелия» существенно изменить одним нажимом извне нельзя было, ибо они сами в себе носили фактор изменчивости, мутацию, модус перехода. Они создали то, что не могло быть продолжено, но создали так, что останется оно на долгом хранении.
Единый текст
Книга, о которой пойдет речь, – почти тысячестраничный том: Н. А. Заболоцкий. Огонь, мерцающий в сосуде…: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества / Составление, жизнеописание, примечания Никиты Заболоцкого. М.: Педагогика-Пресс, 1995.