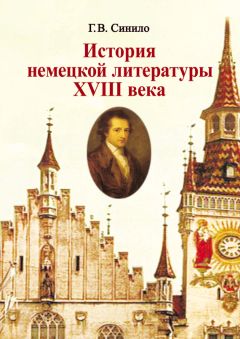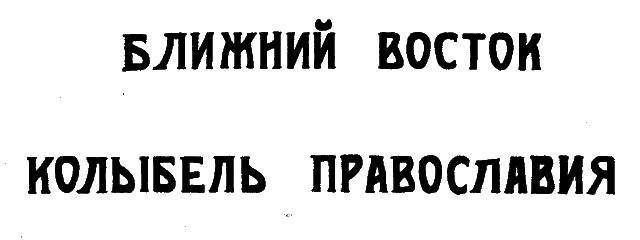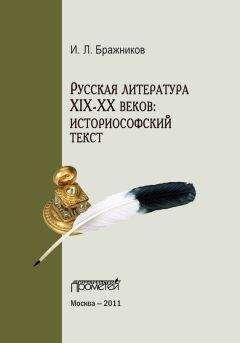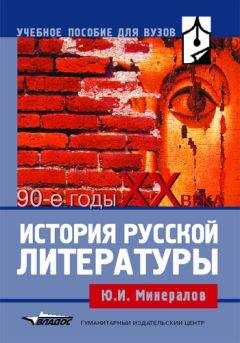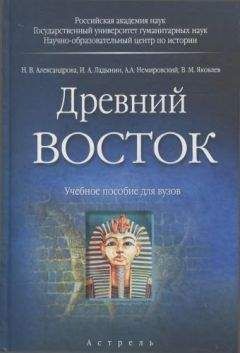Галина Синило - История мировой литературы. Древний Ближний Восток
Поэма о нисхождении богини Иштар в подземное царство (в переводе В. К. Шилейко – «“К Стране безысходной…” (Сошествие Иштар в Преисподнюю)»[491] наглядно демонстрирует, как вавилонские поэты обрабатывали шумерские сюжеты, преподнося их на качественно ином уровне. Общая схема сюжета та же, но в вавилонской гораздо более четко мотивируются действия, подробно объясняется, что Иштар – богиня плодородия и с ее уходом на земле прекращается всякое рождение:
Как Иштар, госпожа, сошла к Преисподней —
Бык на корову больше не скачет,
Осел ослицы больше не кроет,
Жены при дороге не кроет супруг,
Спит супруг в своей спальне, спит жена у себя.
Изменен и финал поэмы: он представляет собой мистериальное драматическое действо, в котором расписаны реплики партнеров и хоровые партии. Мистерии были связаны с чрезвычайно популярным культом Думузи, супруга Инанны-Иштар, который у аккадцев именовался Ду’узи, а в библейских текстах – Таммуз; культ этого умирающего и воскресающего бога оказал значительное влияние на весь сиро-палестинский регион (характерно, что греки передавали это имя как Даозос, или Даоннос, что весьма близко к Дионису с культом сходного символического наполнения). Ду’узи, как и Думузи в шумерском мифе, на полгода уходил вместо Иштар в царство мертвых, а затем на полгода возвращался. С его возвращением был связан праздник возрождения природы и начало Новолетия; к нему был приурочен обряд «священного брака», отзвуки которого обнаруживаются в финале поэмы:
На Таммуза, дружка ее юности,
Чистую воду возлей, лучшим елеем помажь;
Светлое платье пусть он наденет,
И лазурная флейта разобьет его сердце,
И веселые девы полонят его мысли. [111]
С уходом Ду’узи-Таммуза был связан праздник поминовения мертвых, которых нужно было ублажать играми, плясками, пением, жертвоприношениями и воскурениями ароматов:
В дни Таммуза играйте на лазоревой флейте,
На порфирном тимпане[492] с ним играйте,
С ним мне играйте, певцы и певицы,
Мертвецы да восходят, да вдыхаю куренья! [111]
Как и в шумерской поэме, в вавилонской выражен принцип «за голову – голову», но при этом в словах самой Иштар гораздо более четко сформулирован закон равновесия «верха» и «низа», который опасно нарушать; однако именно его и грозится нарушить богиня, если ее не впустят в Страну-без-воврата:
Сторож, сторож, открой ворота,
Открой ворота, дай мне войти.
Если ты не откроешь ворот, не дашь мне войти,
Разломаю я дверь, замок разобью,
Разломаю косяк, побросаю я створки.
Подниму я усопших, едящих живых,
Станет больше живых тогда, чем усопших. [105–106]
Новые черты в поэтике вавилонской поэмы проявляются также в том, что здесь нет такого огромного количества повторов, какое мы встречаем в шумерском тексте. Вместо повторения гигантских периодов дается более красочное и детальное описание событий и явлений. Так, в начале поэмы пространное перечисление храмов и городов, из которых уходит шумерская Инанна, заменено очень динамичным и поэтичным изображением самой Страны-без-возврата (при этом оно, судя по всему, было клишированным в аккадских текстах):
К Стране безысходной, земле обширной
Синова дочь, Иштар, свой дух склонила,
Склонила Синова дочь свой дух пресветлый
К обиталищу мрака, жилищу Иркаллы.
К дому, откуда вошедший никогда не выходит,
К пути, на котором дорога не выводит обратно;
К дому, в котором вошедший лишается света,
Света он больше не видит, во тьме обитает;
Туда, где питье его – прах и еда его – глина,
А одет он, словно бы птица, одеждою крыльев.
На дверях и засовах простирается прах,
Пред вратами разлилось запустенье.[493] [105]
Повторы сохраняются только в самых напряженных и важных по смыслу эпизодах. Так, в начале нет красочного описания одеяния Иштар, но эти детали, имеющие магический смысл (их семь, но они иные в сравнении с шумерским текстом), перечисляются, когда Иштар проходит через семь врат, ведущих в Страну-без-возврата, ибо страж последовательно снимает их, лишая богиню магической защиты: большую тиару с головы; подвески с ушей; ожерелье с шеи; щиточки с грудей; пояс рождений с чресел (согласно комментарию В. К. Шилейко, в оригинале – «пояс с камнями рождений», талисман для облегчения родов); запястья с рук и ног; «платочек стыда с ее тела» [108]. При этом на тревожные вопросы испуганной богини звучит, как и в шумерском тексте (но в другой вариации), неумолимый ответ: «Входи, госпожа! У царицы земли[494] такие законы» [107–108]. Затем те же детали повторяются, когда воскресшая Иштар покидает Страну-без-возврата и в каждых из семи врат ей возвращают ее одеяния и украшения-талисманы. В вавилонской поэме Эрешкигаль насылает на свою сестру шестьдесят смертельных болезней (нет мотива подвешивания трупа на крюк). Ходатайствует за Иштар перед Эа (Эйей) посол великих богов Папсуккаль, и по его просьбе Эйя «в глуби сердечной задумал образ, // Создал Аснамира, евнуха» [109] (отсутствует мотив троекратного обращения посла Инанны к великим богам, равно как и соответствующие повторы; нет мотива сотворения Энки кургара и галатура из грязи, добытой из-под ногтей). Аснамир (точнее, Ацушунамир – «выход [его] светел [сияет]») спасает Иштар, окропив ее живой водой (шумерский мотив с «травами жизни и водами жизни» не повторяется, но варьируется). Нет также никаких демонов гала, больших и малых, но лишь посланец смерти Намтар, который должен проследить, чтобы Иштар отдала за себя выкуп, а если она этого не сделает – отправить ее обратно в преисподнюю.
Таким образом, очевидно, сколь творчески вавилонские поэты перерабатывали шумерские образцы: в поэме о нисхождении Иштар в преисподнюю старый сюжет получает новое поэтическое дыхание за счет энергичного сжатия текста и одновременно его динамизации и психологизации (то же самое можно увидеть при сопоставлении шумерских героических сказаний и вавилонского эпоса о Гильгамеше).
Сказания о бедствиях людей и гибели Вселенной
Сказания о сотворении мира и людей сопровождаются в аккадской мифологии и литературе, как и в шумерской, сюжетами, связанными с бедствиями людей и даже гибелью мира. При этом причины обрушивающихся на мир бедствий коренятся не в моральном зле, развращении и падении человека, как это будет представлено в библейских текстах, но связаны с непредсказуемой жестокостью богов, их желанием погубить людской род, а также с их самолюбием и гордыней, борьбой за власть над миром.
Так, коварство и злая воля бога чумы и разрушений Эрры становятся причиной, по которой едва не погибла вся Вселенная. Сказание об Эрре – «Царь всех обиталищ…» («Поэма о боге чумы Эрре»), дошедшее в виде нескольких десятков сильно поврежденных фрагментов из разных городв Месопотамии и Северной Сирии, что свидетельствует о его популярности, было реконструировано не сразу[495] и датировано временем не ранее XI в. до н. э. Возможно, оно косвенно отражает вполне реальное событие того времени – нашествие на Вавилонию в конце 2-го тыс. до н. э. с Запада эламитских и арамейских (халдейских) племен (в тексте они названы сутиями). Это третье по размерам (после поэмы о Гильгамеше и «Энума элиш») аккадское клинописное произведение, дошедшее до нас (как отмечает В. А. Якобсон, «первоначальный текст состоял из пяти таблиц, содержавших в общей сложности примерно 750 строк, из которых сохранилось примерно две трети»[496]).
Бог Эрра (или Ирра; отсюда, возможно, и имя хеттского бога чумы Иарри) был близок аккадскому богу Нергалу, а иногда и отождествлялся с ним (у них был даже общий храм Эмесалам, или Эмеслам, в городе Кута). Не случайно и в поэме о замужестве Эрешкигаль Нергал фигурирует под именем Эрры, а в других аккадских текстах царица подземного царства часто именуется супругой Эрры. Согласно тексту поэмы «Царь всех обиталищ…», Эрра (именование в первой строке отнесено именно к нему), сын Эллиля, «воитель богов», томится в своем жилище, «жаждет сердце его затеять битву» (здесь и далее перевод В. Якобсона) [112]. Ему приходятся по душе слова Сибитти – семерки богов, сотворенных Аном и Ки, подстрекающих его захватить власть у самого Мардука, уничтожить род людской и все живое только потому, что их шум мешает богам-Ануннакам:
…Люди да устрашатся, да утихнет их гомон,
Звери да содрогнутся, да вновь станут глиной,
Боги, твои предки, да видят, да восславят твою доблесть.
Эрра-воитель, что оставил ты волю, сидишь во граде?
Стада Шаккана и звери нас презирают.
Эрра-воитель, тебе мы молвим, будь не во гнев наше слово:
Прежде чем вся страна над нами вознесется,
Пожалуй, ухо склони к реченьям нашим,
Ануннакам, любящим блаженную тишь, окажи услугу,
Из-за гомона людского к ним сон не приходит! [115]
Честолюбивый Эрра решает откликнуться на этот призыв. Вопреки призывам Ишума, своего советника, бога огня, одуматься («Состраданьем охвачен, он молвит воителю Эрре: “Владыка, зачем на богов ты злое замыслил, // На погибель страны, на людей истребленье безвозвратно ль ты злое замыслил?”» [116]) Эрра гордо и одновременно гневно говорит о своей значимости и о том, как мало его почитают «черноголовые» (так именовали себя аккадцы вслед за шумерами); теперь же нужно настроить против людей самого Мардука: