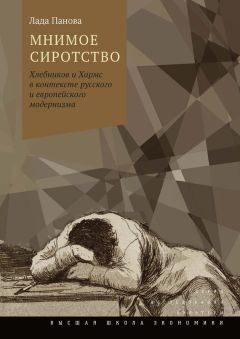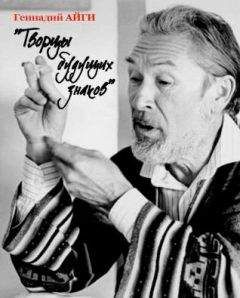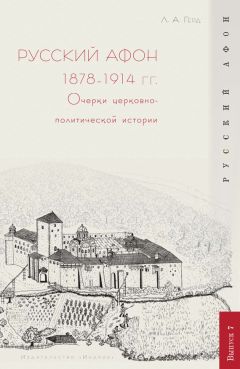Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
По отношению к «роману автора и героя» «роман героев» в «Онегине» оказывается также на положении вставной новеллы: «мистерия странствий» автора и Онегина прерывается в момент перемещения героя из столицы в мир поместной России. В «идиллическом» мире, сосредоточенном вокруг усадеб Лариных, Ленского и Онегина, разыгрывается своя трагическая «новелла» о двух друзьях, один из которых провоцирует невесту друга на испытание глубины ее чувства (провоцирует, чтобы развлечься, рассеяться): проверка-игра также заканчивается вполне всерьез – воскрешением призрака «чести», этого неизменного спутника всех презираемых Пушкиным «испанских» сюжетов, кровью, убийством (пасторальный хронотоп издавна тяготеет к мотивам смерти, похорон, кладбищ, могил и т. д.).
Другая фабульная составляющая «романа героев» в «Онегине» – повесть о «несовпадающей» (вариант: запоздалой) любви, также вполне традиционна34: так, у того же Ариосто, прекрасно известного Пушкину, и у совсем ему не известных авторов испанских пасторальных романов отвергаемый влюбленный (-ая) исцеляется от своего чувства при помощи волшебного средства (например, испив из волшебного источника), в то время, как объект его (ее) чувства, испив волшебной воды из другого источника, вызывающего любовь, влюбляется в того, кого отвергал прежде. Пушкин в качестве преграды между Онегиным и Татьяной вводит в фабулу мотив замужества Татьяны (также достаточно традиционный в западноевропейском любовно-авантюрном романе ход), ставя тем самым Татьяну в положение принцессы Клевской, а Онегина – в положение… трубадура, служителя Прекрасной
Дамы, которая «по определению» должна была быть замужем и занимать высокое положение на социальной лестнице.
Поразившая Онегина любовь к Татьяне – последняя стадия «вочеловечивания» героя Пушкина, превращение его из светского франта, подобия «ветреной Венеры», адепта карнавальной любви-игры в страдающего влюбленного, или – если идти от его функции в сюжете – в «рыцаря», хотя именно этого персонажа нет в номенклатуре персонажей русского романа первой половины XIX века. Зато, согласно классификации Ю. М. Лотмана, в творчестве Пушкина конца 20-х годов нередко встречается антитетическая пара «джентльмен-разбойник»35, каковые, по сути, двумя ипостасями рыцаря и являются36. Сон Татьяны, соединяя «джентльмена» и «разбойника» в гротескное целое, открывает в Онегине первых глав перспективу его движения к Онегину восьмой главы. Подсознательное стремление Татьяны соединить в Онегине «джентльмена» и «разбойника» – это мечта русской культуры (в лице Пушкина и его героини) о русском «рыцаре бедном», о служителе Вечной женственности, так и оставшаяся недовоплощенной на русской почве. В то время как сама Вечная Женственность именно здесь, в России, в «Онегине», в «милом идеале» Татьяны, нашла себе земное пристанище, оставшись на страницах испанской «повести» навечно заколдованной в обличье грубой крестьянки.
Наконец, типологически однотипны – в своей амбивалентности и условной завершенности – окончания испанского и русского романов. Оба романиста – и Сервантес, и Пушкин – с явным трудом, ценой немалого внутреннего усилия – расстаются со своими героями, расстаются вынужденно: Сервантес должен похоронить Алонсо Кихано, чтобы не появился новый Авельянеда, Пушкин – «просто» потому, что пришло время («…Довольно мы путем одним / Бродили по свету…»). Но похороны идальго, возомнившего себя Дон Кихотом, – не смерть Дон Кихота и не конец романа Сервантеса: конец «Дон Кихота» 1615 года – речь Сида Ахмета, обращенная к своему перу и возвращающая нас к моменту рождения Дон Кихота (его сотворения и крещения, осуществленного Алонсо Кихано), то есть к началу повествования («Для меня одного родился Дон Кихот…»). Равно как «окаменение» Онегина – развязка «романа героев», его фабулы, в то время как «роман автора и героя», его сюжет продолжится в «Путешествии Онегина», последняя строка которого также переносит читателя к началу создания «Онегина» («Итак, я жил тогда в Одессе…»)37.
Сказанное – только подступ к решению поставленной С. Г. Бочаровым перед испанистикой и русистикой проблемы. Несомненно, дополнительного рассмотрения заслуживают такие сходящиеся-расходящиеся мотивы двух романов, как безумие-мудрость Дон Кихота и «русская хандра» Онегина, все же не сошедшего с ума, оставшегося на грани, которую так боялся перейти его создатель.
Примечания1 Впервые она была опубликована в сборнике «Сервантес и всемирная литература» (М.: Наука, 1969). Переиздана в кн.: Бочаров С. Г. О художественных мирах (М.: Советская Россия, 1985). Далее цитируется по последнему изданию, тем более что в первом примечания о сходстве «Онегина» и «Дон Кихота» нет.
2 Бочаров С. Г. Указ. соч. С. 27.
3 Buketoff-Turkevich L. Cervantes in Russia. Princeton, 1950.
4 Багно В. Е. Дорогами «Дон Кихота». Указ. изд.
5 Айхенвальд Ю. Дон Кихот на русской почве. Указ. изд.
6 После первой публикации нашего исследования в 2001 году, во время работы в качестве приглашенного профессора в США, мы смогли познакомиться с неопубликованной докторской диссертацией Б. Т. Холла «"Дон Кихот" и русский роман; сопоставительный анализ» (Hall B. T. Don Quixote and the Russian Novel: a Comparative Analysis), защищенной в 1992 года в университете Висконсин-Медисон. Первая глава диссертации посвящена «Евгению Онегину». В целом анализ Холла развивает линию, намеченную М. Бахтиным и развитую В. Е. Багно, т. е. линию сопоставления образов Татьяны и Дон Кихота.
7 Цит. по изд.: Страда В. Лукач, Бахтин и другие // Бахтинский сборник. III. М.: Лабиринт, 1977.
8 Начиная с Э. Райли, автора ставшей классикой сервантистики книги «Сервантесовская теория романа» (Riley E. Cervantes's Theory of the Novel. Oxford: Clarendon Press, 1962), в сервантистике утвердилась тенденция трактовать творчество создателя «Дон Кихота» как плод целеустремленной, сплошь сознательной, лишенной какой-либо спонтанности деятельности, ориентированной на современные эстетические концепции и школы, неоаристотелизм в первую очередь. Нам она представляется такой же крайностью, как и романтическая концепция «Сервантеса – невежественного гения».
9 Страда В. Указ. соч. С. 51.
10 Там же.
11 Прочтение «Онегина» с точки зрения поэтики противоречий, как известно, – заслуга Ю. М. Лотмана (см., например: Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического творчества. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988). И здесь критики-пушкинисты и сервантисты поразительно единодушны: о «противоречивости» или «двойственности», «амбивалентности» романа
Сервантеса пишут почти все, кто когда-либо писал о «Дон Кихоте» (см., например: Durán М. La ambigüedad en el Quijote. Op. cit.).
12 Страда В. Указ. соч. С. 51.
13 Мы – вслед за С. Г. Бочаровым – закавычиваем здесь слово «роман», чтобы отличить его от романа как такового. В английском языке «роману» (в кавычках) соответствует слово romance, роману в новоевропейском значении слова – novel.
14 Характерна в этой связи двойственная трактовка обоими романистами того термина, который они используют для обозначения жанровой сущности своего сочинения. Сервантес именует его «история» (historia – на русский язык нередко переводится как «повесть»), в которое вкладывает два взаимоисключающих смысла: его «история» – это пародия на псевдоисторичность «книг о рыцарстве» и одновременно – достоверное повествование. То же – у Пушкина: роман – и нечто, рифмуемое с «обман», и одновременно – правда жизни.
15 «Повествуя о многообразных событиях русской жизни 20-х годов XIX столетия, о становлении сознания живущих в условном мире романа людей, – писал об „Онегине“ В. Н. Турбин, – роман предполагает присутствие где-то рядом с повествованием и читательского сознания. Оно-то и есть голос жизни, многообразие которой поминутно стремится жанрово упорядочиться, иначе оно оказалось бы просто хаосом» (Турбин В. Н. Поэтика романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 11).
16 Об этой особенности поэтики Пушкина точно и убедительно пишет Ю. Н. Чумаков (см.: Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск: Наука, 1983. С. 19, 41 и сл.)
17 Чумаков Ю. Н. Указ. соч. С. 10.
18 Более подробно о «Дон Кихоте» как «романе сознания», о самом этом жанре и его месте в литературе эпохи Модерна и Постмодерна см. в заключительной главе этой книги.
19 Очевидно, Пушкин, хотя и начал незадолго до гибели изучать испанский язык, не читал роман Сервантеса в оригинале и мог быть знаком только с его неточными и неполными французскими и русскими переводами, судя по всему, не произведшими на него большого впечатления. Поэтому мы скорее готовы допустить интенсивное косвенное воздействие сервантесовских романных новаций на создание «Евгения Онегина» – через «Чайльд Гарольда», «Тристрама Шенди», творения других английских романистов. Но в этой работе мы ограничиваемся типологическим сопоставлением.