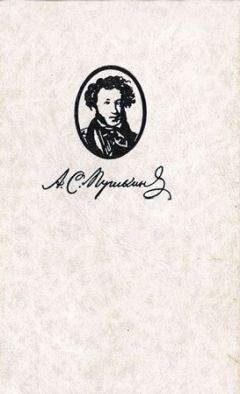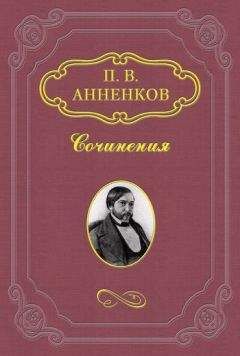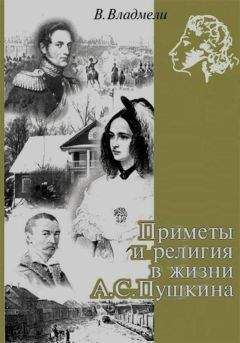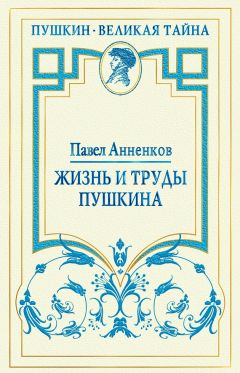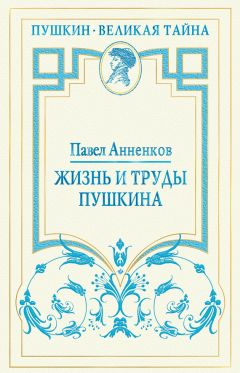Георгий Чулков - Мистика судьбы Пушкина. «И с отвращением читая жизнь мою…»
II
В первые же дни лицеистам стал доступен царскосельский парк. Здесь, между прочим, недалеко от мраморного мостика была та лужайка, которая сохранила название Розового поля, хотя давно уже на ней не росли розы, посаженные при Екатерине. Весною 1821 года Пушкин, в одном из вариантов «Гавриилиады», вспоминает этот уголок Царского Села:
Вы помните ль то Розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой.
Граф Брольо был отважнее, сильнее;
Комовский же проворнее, хитрее;
Нескоро мог решиться жаркий бой —
Где вы, лета забавы молодой!
Кто это Бролио?[83] Кто Комовский? Сильвестр Францевич Бролио или Броглио, шевалье де Касальборгоне, ровесник Пушкина, – потомок знатных, но уже обнищавших сардинских графов. Его отец попал в Россию во время Большой революции, как эмигрант. Последний по успехам в науках и первый по шалостям, Сильвестр Бролио внушал, кажется, Пушкину некоторую симпатию. По окончании лицея Бролио уехал за границу и был участником пьемонтской революции,[84] очевидно, не разделяя убеждений своего отца-легитимиста.
Сергей Дмитриевич Комовский[85] не был так простодушен, как Бролио. У него было прозвище Лиса за хитрость и Смола за странную привычку приставать неотвязно к товарищам или к воспитателям по самым разнообразным поводам. Он сам сознавал в себе эту странность. Он также брал на себя роль моралиста и не стыдился жаловаться гувернерам на поведение товарищей. Ему, однако, все это почему-то прощали.
На Розовом поле Пушкин играл в мяч, в лапту и занимался борьбой, причем очень страдал, если его побеждали в состязании. Он был самолюбив и запальчив. Вот почему, укладываясь спать, приходилось ему стучать в стенку тринадцатой комнаты и совещаться с Пущиным о своих столкновениях и обидах, настоящих и мнимых. Приятель его утешал.
Пушкина не очень любили: обижала его насмешливость, его вспыльчивость и, главное, то, что он был не такой, как все. Позднее, когда поверили в его исключительный талант, примирились с его странностями и даже гордились им.
Впрочем, некоторые с первых же дней угадали в нем поэта и признали его превосходство. Илличевский,[86] бойкий стихотворец, считавшийся в лицее соперником Пушкина, писал в марте 1812 года одному приятелю, что он видит теперь непростительные ошибки в своих стихах: ему указал на них товарищ, у которого «много в поэзии знаний и вкуса» и который жил «между лучшими стихотворцами». Тут же он сообщает, что в лицее «запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкою».
Запрет на поэтические опыты был вскоре отменен. Однажды после класса Кошанский сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». У всех стихи не клеились, и только Пушкин прочел два катрена, которые всех восхитили. Но Илличевский все еще пользовался успехом. Он писал басни и эпиграммы. В день его рождения хором спели ему кантату:
Слава, честь лицейских муз,
О, бессмертный Илличевский!
Меж поэтами ты туз!..
Был в лицее еще один поэт, странный неудачник, чья судьба была так значительна и чей характер был так трагикомичен. Это Вильгельм Карлович Кюхельбекер[87] – постоянная мишень для школьных насмешек, слагатель плохих стихов с гениальными иногда строчками, будущий участник декабрьского восстания. Это тот Вильгельм, которого Пушкин в своих «Пирующих студентах» просит прочесть стихи, чтобы «заснуть скорее». И это тот же поэт, к которому обращена знаменитая строфа пьесы «19 октября 1825 года»:
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты…
Опомнимся – но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?
Кюхельбекер был самым плодовитым стихотворцем лицея. Длинный и нескладный, «как-то странно извивавшийся всем телом», с пылким сердцем и необузданной вспыльчивостью, «почти полупомешанный», на взгляд иных прозаических товарищей, он был постоянным героем карикатур, и, однако, в этом чудаке было настоящее поэтическое вдохновение, которое, к несчастью, оставалось невоплощенным. На бедного поэта сыпались лицейские эпиграммы слишком обильно и часто без достаточных оснований. Ему даже был посвящен рукописный сборник «Жертва Мому».[88]
Увлечение стихами сказалось, между прочим, в сочинении куплетов, которые в лицее назывались «национальными». Их сочиняли общими силами экспромтом и распевали хором. Иные из этих катренов записал Пушкин. Среди них есть строки по адресу Кюхельбекера:
А Вильмушке поэту
Стихи писать грешно.
Есть куплет, посвященный самому Пушкину, где пародируется восклицание математика Карцова:
А что читает Пушкин?
Подайте-ка сюды!
Ступай из класса с богом,
Назад не приходи.
Настоящей нежной любовью поэта пользовался барон Антон Антонович Дельвиг. Этот сонный ленивец умел иногда очаровать товарищей своими рассказами, исполненными живости и воображения. Он первый угадал в Пушкине гения, и Пушкин отплатил ему признанием в нем лирической прелести:
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел…
У Пушкина были друзья. Его любил Пущин, ему всегда был верен Малиновский, но ни тот ни другой не знали ничего о тех тайнах поэзии, какие знал Дельвиг. Об этих тайнах догадывался, конечно, Кюхельбекер, но он был чужой. У него был какой-то свой мир, торжественный и высокопарный или неуклюже игривый, совсем не прозрачный, старомодный и гордый. Пушкин и уважал его, и смеялся над ним. Не таков был Дельвиг. Этот был свой. Только он один понимал до конца Пушкина и сам был ему понятен. Позднее, за стенами лицея, несмотря на дружбу, пути их разошлись. Пушкин рос не по дням, а по часам, как сказочный богатырь, а Дельвиг, в сущности, так и остался лицейским поэтом. Но оба они были товарищами по «веселому ремеслу» стихотворцев. Такого другого собеседника и ценителя в лицее у Пушкина не было. К числу доброжелателей Пушкина надо присоединить еще четырех – Ф. Ф. Матюшкина В. Д. Вольховского, М. Л. Яковлева и К. К. Данзаса.
Ф. Ф. Матюшкин, по слову поэта, «чужих небес любовник беспокойный», со школьной скамьи мечтавший о морской службе и путешествиях, будущий контр-адмирал, участник экспедиции по обследованию северных берегов Восточной Сибири, был одним из вернейших почитателей Пушкина.
В. Д. Вольховский, первый ученик, окончивший лицей с золотой медалью, всегда внушал Пушкину чувство уважения за его мужественный характер, скромность и нравственную чистоту. «Воспитанный суровою Минервой»,[89] он пленял поэта своей «спартанскою душой». М. Л. Яковлев, балагур и весельчак, прозванный Паяцем за свои актерские способности, талантливый сочинитель романсов на слова Пушкина и Дельвига, постоянный участник лицейских журналов, где он помещал свои басни, также был связан дружбою с Пушкиным до конца его дней.
И наконец, К. К. Данзас, один из издателей «Лицейского мудреца», чуть ли не самый ленивый из учеников лицея, доказавший впоследствии свою храбрость и военную находчивость в персидском походе и в турецкой кампании 1828–1829 годов. Пушкин считал его своим приятелем.
Вот эти семь-восемь молодых людей и составили тот лицейский кружок, где вскоре Пушкин занял первое место.
Почти во всех учебных заведениях, особенно закрытых, создавались рукописные журналы. В Царскосельском лицее эта обычная школьная затея стала любимым занятием молодежи. Кроме журналов издавались рукописные стихотворные сборники. Почти все лицеисты интересовались литературой. Многие писали стихи. Некоторые из лицеистов были раньше воспитанниками московского благородного университетского пансиона,[90] где учился Жуковский и где сложились литературные традиции.
Лицейские рукописные издания начались с первых же дней. Одиннадцатилетний Корсаков[91] уже издавал какие-то Сарско-сельские лицейские газеты». Тогда же, в 1811 году, вышел «Сарско-сельского лицея Вестник», первые листки коего сохранились до наших дней. В этих страничках – ребяческие шутки, пародирующие газетные сообщения, детское стихотворение Илличевского и совершенно дикий и несуразный стихотворный перевод с французского Кюхельбекера. Пушкин запомнил эту нескладицу и цитировал ее по памяти спустя десять лет в письме к брату: «Страх при звоне меди заставляет народ устрашенный толпами стремиться в храм священный. Зри, боже! число, великий, унылых, тебя просящих, сохранить им – цел труд, многим людям – принадлежащий и проч.». Дошли до нас еще отрывки из журнала «Для удовольствия и пользы». Был еще журнал «Юные пловцы», о котором мы узнаем из сохранившегося письма в редакцию «отставного гувернера» Иконникова, который, между прочим, пишет: «Уважая ваши занятия, которых основанием и целью суть охота к усовершенствованию себя в российской словесности, приемлю смелость покорно просить вас, милостивые мои государи, господа издатели, о принятии и меня, любителя отечественного языка и, смею сказать, полезных упражнений, в ваши корреспонденты…» Это послание датируется 1813 годом.