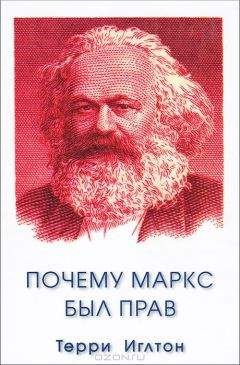Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
Так как все мы «постромантики» – в том смысле, что являемся скорее порождением этой эпохи, чем ее убежденными последователями, – нам трудно увидеть всю тогдашнюю странность этой особой исторической идеи. Но ясно, что такой она виделась большинству английских писателей, чье «образное видение» мы сегодня благоговейно превозносим над простой «прозаической» речью тех, кто не может найти более волнующего объекта для письма, чем пандемия чумы в Европе в середине XIV в. или варшавское гетто. Именно в романтический период описательный термин «проза» начал приобретать негативное значение будничности, скуки, унылости. Если то, чего не существует, стало привлекательней реального, если поэзия или воображение имеют преимущество над прозой и «голыми фактами», то вполне можно утверждать, что это говорит нам нечто значимое об обществе, в котором жили романтики.
Рассматриваемый период был революционным: в Америке и Франции старые колониальные или феодальные режимы были свергнуты в результате восстания буржуазии, а Англия, вследствие гигантских доходов, полученных от работорговли XVIII века, и полного контроля над морями, достигла стартовой точки экономического взлета, благодаря которому она стала первым индустриальным капиталистическим государством. Но утопические надежды и живые силы, высвобожденные этими революциями, вступили в трагическое противостояние с грубой реальностью новых буржуазных режимов. В Англии дремучий мещанский утилитаризм быстро становится доминирующей идеологией промышленного среднего класса, фетишизируя наличную действительность, сводя человеческие отношения к рыночным, отбрасывая искусство как не приносящее дохода украшение. Бесчеловечные порядки раннего промышленного капитализма разрушают все сообщества, превращают человеческую жизнь в наемное рабство, усиливают отчуждение труда недавно возникшего рабочего класса и принимают в расчет только то, что может быть превращено в рыночный товар. Так как рабочий класс отвечал на это угнетение активным протестом, а тревожные воспоминания о революции на другом берегу Ла Манша все еще неотступно преследовали правителей и по эту его сторону, английское государство отреагировало жестокими репрессиями, прокатившимися по всей территории Англии. Эти репрессии захватили часть эпохи романтизма, во время которой Англия по сути превратилась в полицейское государство[33].
Перед лицом этих сил в предпочтении, отдаваемом романтиками «творческому воображению», можно увидеть нечто большее, нежели тщетный эскапизм. Напротив, «литература» теперь стала одним из тех немногих приютов, где прославлялись и укреплялись творческие ценности, утраченные английским обществом под воздействием промышленного капитализма. «Творческое воображение» может быть представлено в виде неотчужденного труда; интуитивное, трансцендентальное измерение поэтического сознания способно обеспечить живую критику тех рационалистических и эмпирических идеологий, которые подчинены «фактам». Само литературное произведение начинает рассматриваться как таинственное органическое единство в противоположность фрагментированному индивидуализму капиталистического рынка: произведение «спонтанно», а не просчитано рационально; это творчество, а не механика. Слово «поэзия» больше не относится просто к внешней форме письма – оно обладает теперь глубокими социальными, политическими и философскими значениями, и при его звуке правящий класс буквально вынужден хвататься за оружие. Литература стала целой альтернативной идеологией, и само «воображение», как у Блейка и Шелли, становится политической силой. Его задача – изменить общество во имя жизненных сил и ценностей, воплощенных в искусстве. Большинство крупных поэтов романтизма сами были политическими активистами, сознавая, что литература и общественные взгляды скорее дополняют друг друга, чем находятся в противостоянии.
Мы уже можем обнаружить в этом литературном радикализме зачатки других, более привычных нам предпочтений: установку на независимость и свободу выражения, на его великолепную отстраненность от таких прозаических забот, как прокорм семьи или борьба за политическую справедливость. «Трансцендентальная» природа воображения позволяла не только бросить вызов безжизненному рационализму, но и дать писателю удобную возможность заменить саму историю. Действительно, такая оторванность от истории отражает реальную ситуацию романтического автора. Искусство становилось предметом потребления, как и все вокруг, и роль романтического художника оказывалась ненамного большей, чем роль второстепенного товаропроизводителя, и это при всех его риторических притязаниях на роль «представителя» человечества, на то, что он вещает от лица людей и выражает в словах вечные истины. Его существование в обществе, несклонном щедро вознаграждать пророков, становится все более и более маргинальным. Последний пылкий идеализм романтизма был «идеалистичен» именно в отвлеченном смысле этого слова. Лишенный достойного места в общественном движении, которое могло бы реально трансформировать промышленный капитализм в справедливое общество, писатель все больше погружался в уединение собственных творческих помыслов. Представление о справедливом обществе довольно часто оборачивалось возвращением к бесплодной ностальгии по старой «естественной» Англии, времена которой давно прошли. Разрыв между поэтическим восприятием и политической практикой был заметно сокращен во времена Уильяма Морриса[34], в конце XIX века использовавшего этот романтический гуманизм для дела рабочего класса[35].
Не случайно в обсуждаемый период возникает современная «эстетика», или «философия искусства». Главным образом от этой эпохи, через произведения Канта, Гегеля, Шиллера, Кольриджа и других, мы унаследовали современные понятия «символ» и «чувственный опыт», «эстетическая гармония» и «особая природа» произведения искусства. Раньше мужчины и женщины писали стихи, ставили пьесы или рисовали картины, исходя из разных целей, в то время как другие по-разному читали их, смотрели и воспринимали. Сейчас же эти конкретные, исторически варьирующиеся практики были отнесены к особому, таинственному ведомству, известному как «эстетическое», и новое племя эстетиков стремилось обнаружить его глубинные структуры. Это не значит, что такого рода вопросы не ставились ранее, просто отныне они получили новое значение. Предположение, что есть неизменная сущность, осознаваемая как «искусство», или отдельный опыт «красоты» или «прекрасного», было в значительной степени продуктом самого отчуждения искусства от общественной жизни, о котором мы уже говорили. Если литература больше не имеет очевидного назначения – если писатель теперь не привычная фигура при дворе, церкви или аристократическом покровителе, – то можно повернуть это обстоятельство в пользу литературы. Особенность «творческого» письма состояла в том, что оно было восхитительно бесполезно и нацелено само на себя, высокомерно отворачиваясь от низких общественных целей. Потеряв своего высокого покровителя, писатель нашел ему замену в лице поэтики[36]. В самом деле, есть нечто невероятное в том, что «Илиада» была искусством древних греков в том же смысле, как храм был произведением искусства средних веков или произведения Энди Уорхола являются искусством для нас; но воздействие эстетики подавляет эти исторические различия. Искусство выпуталось из материальных практик, общественных отношений и идеологических смыслов, в которых всегда пребывало, и вознеслось на пьедестал как кумир.
В центре эстетической теории в начале XIX века лежало полумистическое учение о символе[37]. Поистине, символ для романтизма становится панацеей от всех невзгод. В нем все конфликты, которые в обыденной жизни воспринимаются как неразрешимые – между субъектом и объектом, общим и частным, чувственным и умозрительным, материальным и духовным, порядком и произволом, – могут волшебным образом разрешиться. Нет ничего удивительного в том, что такие конфликты мучительно ощущались именно в этот период. Вещи в обществе, которое видело в них лишь товары, были безжизненны и вялы – оторванные от человеческого субъекта, производящего или потребляющего их. Частное и общее, казалось, разошлись: сухая рационалистическая философия игнорировала чувственные качества конкретных вещей, тогда как близорукий эмпиризм («официальная» философия английского среднего класса, как и сейчас) не мог рассмотреть за отдельными фрагментами мира хоть сколько-нибудь стройную картину, в которую они могли бы слиться. Живые стихийные силы общественного прогресса необходимо было поощрять, но в то же время сдерживать социальным порядком их потенциальный анархический настрой. А символ смешивает движение и покой, взрывное содержание и организованную форму, сознание и мир. Его материальная форма – среда существования абсолютной духовной истины, понимаемой скорее непосредственно интуитивно, чем с помощью трудоемкого критического анализа. Такой символ доводит до нас эту истину способом, не терпящим возражений: вы или видите ее, или нет. Это – краеугольный камень иррационализма, который препятствует рациональным критическим изысканиям и с тех пор свирепствует в теории литературы. Перед нами была единая вещь, и рассматривать ее – разбирать на части, чтобы увидеть, как она работает, – считалось почти таким же богохульством, как стремление проанализировать Святую Троицу. Все части символа произвольно действуют ради общего блага, каждая на своем месте, и потому неудивительно, что символ или литературный артефакт как таковой в течение всего XIX и всего XX века утверждались как идеальная модель самого человеческого общества. Вот если бы только низшие слои общества забыли свое недовольство и сплотились ради всеобщего блага, тогда большинства утомительных волнений удалось бы избежать…