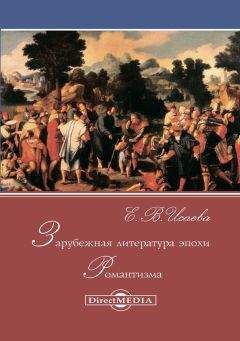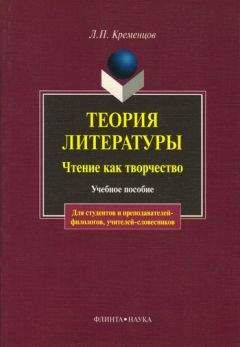Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика
Все перечисленные различия выделяются и тогда, когда нет значительных «абстрактно-лингвистических» отличий между разными языками. Однако отличия могут быть и более существенными: «Так, уже между литературным разговорно-бытовым и письменным языком может проходить более или менее резкая грань. Различия между жанрами часто совпадают с диалектологическими (например, высокие – церковнославянские – и низкие – разговорные – жанры XVIII века)» (107). См. также в «Эпосе и романе» о распределении многоязычия между жанрами в Древней Греции (455).
Последние примеры Бахтина подводят читателя к явлению, которое в современной лингвистике принято называть диглоссией. При диглоссии один и тот же человек в разных по характеру ситуациях пользуется разными языковыми системами (разными языками или разными подьязыками одного языка), не смешивая их. Отсутствие смешения, конечно, происходит лишь в идеализированной ситуации; на деле обычно происходит определенная интерференция систем, не приводящая к их полному смешению. И далее в «Слове в романе» прямо говорится о диглоссии: «Безграмотный крестьянин… жил в нескольких языковых системах: богу он молился на одном языке (церковнославянском), песни пел на другом, в семейном быту говорил на третьем, а начиная диктовать грамотею прошение в волость, пытался заговорить и на четвертом (официально-грамотном, „бумажном“). Все это – разные языки даже с точки зрения абстрактных социально-диалектологических признаков. Но эти языки не были диалогически соотнесены в языковом состоянии крестьянина; он переходил из одного в другой бездумно, автоматически; каждый был бесспорен на своем месте и место каждого бесспорно» (108). Все перечисленное соответствует диглоссии (языков, разумеется, может быть и больше двух) в чистом виде; ниже, впрочем, автор уточняет, что реальный крестьянин до известной степени умел различать и сопоставлять языки (109). Но для Бахтина было важно различать диглоссию и многоголосие в художественной прозе (см. ниже).
Анализируя данную концепцию, необходимо ответить на два вопроса: до какой степени в соответствии с ней языки могут дифференцироваться и по каким критериям эти языки могут разграничиваться. То и другое можно сопоставить с проблемой разграничения языков и стилей в других лингвистических концепциях.
Бахтин нигде не дает каких-либо строгих определений того, в каких случаях можно говорить об одном языке, а в каких – о двух языках. Впрочем, таких определений не предложили и другие линт висты. Вопросы типа: «Два стиля или две разновидности одного стиля?», «Один или два подьязыка?», «Язык или диалект?» – до сих пор решаются либо на глаз, либо на основе внелингвистических критериев, либо (реже всего) на основе введения числовых коэффициентов и пр. Но подход Бахтина, отраженный в цитировавшихся выше формулировках, предлагает здесь возможность совсем простого решения: любые различия достаточны, чтобы говорить о разных языках. Теоретическая простота здесь, однако, ведет к сложностям на практике; к тому же такое решение, видимо, не соответствует нашей интуиции.
Что же касается критериев, выделяющих разные языки, то Бахтин подчеркивает их неоднородность. С одной стороны, вполне возможны «абстрактно-лингвистические» различия. Они могут быть очень заметными, как это бывает при диглоссии, но могут быть и незначительными, находясь при этом в пределах того, что обычно изучает лингвистика. Несколько раз особо отмечаются два явления: «особый словарь» и «специфические акцентные системы», которые могут различать, например, «язык кадета, гимназиста, реалиста» (учащихся трех основных типов средних учебных заведений в России второй половины XIX в. и начала XXX в.). То есть самых минимальных лексических различий достаточно, чтобы говорить об особых языках, но лишь при условии, что эти различия являются социально значимыми.
Однако такие различия достаточны, но не необходимы для того, чтобы говорить о разных языках. Скажем, социальное расслоение языка «определяется прежде всего различием предметно-смысловых и экспрессивных кругозоров, то есть выражается в типовых различиях осмысления и акцентуирования элементов языка, и может не нарушать абстрактно-языкового диалектологического единства общего литературного языка» (103). Об обоих типах различий в одном ряду говорится и в связи с «языками дней»: «и сегодняшний и вчерашний социально-идеологический и политический день в известном смысле не имеют общего языка; у каждого дня своя социально-идеологическая, смысловая коньюнктура, свой словарь, своя акцентная система, свой лозунг, своя брань и своя похвала» (104).
Таким образом, не отрицая собственно лингвистических характеристик языка, Бахтин на первый план выдвигает то, что лингвистика почти никогда не изучала и что признавалось самым важным для носителя языка в МФЯ и «Слове в романе». Языки могут характеризоваться «словарем», «акцентной системой», иногда и чем-то еще. Однако главное – «предметно-смысловые и экспрессивные кругозоры», «различия осмысления элементов языка», «социально-идеологическая, смысловая коньюнктура», различия «лозунгов, брани и похвалы». То есть речь идет о тех или иных системах идей, выражаемых с помощью языка. Вот еще показательный пример: упомянуты «реакционные языки, обреченные на смерть и на смену» (125). Но лингвистика может констатировать смерть языка или подьязыка, отличать архаизм от неологизма, но «реакционных» или «прогрессивных» языков в ней нет по определению. А для концепции цикла именно выражение идей наиболее значимо: за любыми «абстрактно-лингвистическими» различиями, если они есть, обязательно скрываются различия «кругозоров», тогда как обратное не обязательно.
Здесь еще раз вспомним рассуждения о классовости языка, распространенные в конце 20-х—начале 30-х гг. и у марристов, и у противников марризма. В те годы пытались найти классовые различия в современных языках или показать коренное различие русского языка до и после революции. Ради этого одновременно апеллировали к разнице пролетарской и буржуазной идеологии и к лексическим различиям (вспомним рассуждения П. С. Кузнецова об «игралище»). Однако если в области лексики можно было хотя бы указывать на конкретные факты языка, то идеологический анализ дублировал то, что делали вне лингвистики.
Конечно, идеи Бахтина глубже и интереснее, а различие мировоззрений у него не обязательно сводится к классовому, но сходство здесь все-таки имеется. И тут вновь проявилось противоречие, существовавшее и в МФЯ. С одной стороны, Бахтин и ученые его круга вполне справедливо отмечали, что существующая лингвистика узко смотрела на мир, ограничивала себя, не могла ответить на многие важные вопросы. Но, с другой стороны, стремясь к расширению своего подхода, они уходили слишком далеко. «Истинность или ложь, значительность или ничтожность, красота или безобразие» – проблемы важные, но насколько они могут быть проблемами лингвистики? А если могут, то чем их анализ в лингвистике отличается от их анализа в других науках? Как лингвистика может отделить «прогрессивные» языки от «реакционных»? Ни в МФЯ, ни в «Слове в романе» ответ на эти вопросы дан не был. Позже шагом в этом направлении станет разграничение лингвистики и металингвистики, о котором будет говориться ниже.
Но столь широкое понимание языка было нужно Бахтину для решения главной проблемы данного цикла—проблемы многоголосия в художественной прозе, прежде всего в романе. Как указывает сам Бахтин, «лингвистика – необходимая опора стилистического анализа» (228). В частности, важна здесь стратификация языка: «язык романа—система „языков“» (76).
В «Слове в романе» и примыкающих к нему текстах противопоставлены «слово» (высказывание) в прозе и поэзии. Два последних термина понимаются не в самом привычном смысле: скажем, «Евгений Онегин» рассматривается как прозаическое произведение (роман), пусть написанное стихами. Под поэзией имеется в виду то, что чаще называется лирикой. Для нее характерны монологизм и единство языка в указанном выше смысле. Поэтому можно говорить об особом поэтическом языке, или поэтическом стиле. Эта концепция, однако, резко отличалась от концепции поэтического языка и поэтической функции языка у Р. Якобсона, чему посвящена особая статья японского исследователя.[721] Однако нельзя говорить о языке или стиле художественной прозы (тут вероятна скрытая полемичность по отношению к Виноградову, много писавшему как раз об этом стиле). В каждом подлинно прозаическом тексте много языков, точка зрения автора вступает в сложные диалогические отношения с точками зрения персонажей или кого-то еще (господствующего мнения, воображаемого читателя и др.). Здесь развиваются идеи «Проблем творчества Достоевского», но под них подводится и лингвистическая база.
Подробный анализ данной проблематики выходит за рамки рассматриваемой здесь темы. Отмечу лишь, что крайне широкий подход к стратификации языков как раз для этих целей был естественным. Грамматических, фонетических (в графической передаче) и даже лексических особенностей «голосов» романа может не быть, но разница «мировоззрений» и «кругозоров» у разных «голосов» обязательна. Если этой разницы нет, то «голоса», даже принадлежащие разным персонажам, сливаются в один. Сами «абстрактно-лингвистические» особенности речи персонажа или рассказчика—лишь средство для выявления таких различий.