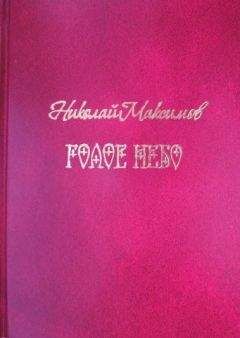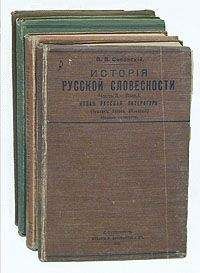Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
Наша цель подчеркнуть важное значение для искусства всех резкостей, несогласов (диссонансов) и чисто первобытной грубости[589].
Конечно, нужно понимать эти слова как отказ от обращенной в прошлое эстетики предшественников (в том числе символистов с их «сливочной тянучкой»[590]) и рассматривать их в контексте постоянной провокационности, характерной для первых манифестов. Но более того: неправильность речи была не только антибуржуазным эпатажем, она являла собой подлинный метод, позволявший придать миру перспективу, связанную одновременно и с первобытностью (до вмешательства разума), и с четвертым измерением, понимаемым как измерение искусства («неправильная перспектива дает новое 4-е измерение»[591]). Таким образом, та «чистота», против которой восстает Крученых, в конце концов оказывается лишь искусственной правильностью, выдуманной теми, кто всегда подчинял язык поэзии внепоэтической норме, идет ли речь о гражданских мотивах XIX столетия или о метафизических Серебряного века. До футуристов «делалось все, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка, чтобы вылупить из слова плодотворное зерно, оскопить его и пустить по миру как „ясный чистый честный русский язык“, хотя это был уже не язык, а жалкий евнух, неспособный что-нибудь дать миру»[592]. Программа же «беспорядка», предложенная Крученых, входит в более широкий замысел, который заключается в том, чтобы дать «движение и новое восприятие мира», и поэтому: «чем больше беспорядка, тем лучше»[593].
Если мы внимательно перечитаем манифесты и сочинения футуристов и попытаемся рассмотреть их в плане нашей темы, то заметим, что у футуристов в действительности было два типа чистоты. Первая из них — дурная чистота, чистота их предшественников во главе с символистами, то есть чистота, выставляющая себя напоказ как таковую и являющаяся на самом деле лишь нормативным выражением так называемого Прекрасного, выдуманного и давно устаревшего. Другая же чистота — хорошая, правильная — лежит в основе нового художественного языка: свободного, «звездного», «заумного» и т. п. Беспорядок, о котором говорит Крученых, это, по сути дела, беспорядок, что с грохотом ворвался в самую сердцевину той условной чистоты, которая в конечном итоге была не чем иным, как одной из разновидностей быта. Этот беспорядок необходим в истинно поэтическом действии в той мере, в какой он творит смысл. К тому же Хлебников в программной статье «Наша основа» (1919) отчетливо использует слово «чистый» в противовес слову «бытовой» (в связи с понятием «самовитого» слова):
Слово делится на чистое и на бытовое. <…> Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли[594].
Итак, носителем нечистоты является быт. Что касается неправильности речи, к которой во весь голос призывает Крученых, то она является лишь переменой перспективы, которая приведет впоследствии к изначальной («самовитой») чистоте всего мира. Во всяком случае, в «Нашей основе» Хлебников говорит о том же, воспевая опечатку:
Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная неосознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику[595].
Все это позволяет объяснить ту легкость, с которой Крученых сближает «заумь» с супрематической живописью в предисловии к «Вселенской войне» (1916):
Эти наклейки рождены тем же, что и заумный язык — освобождением твори от ненужных удобств (ярая беспредметность). Заумная живопись становится преобладающей. Раньше О. Розанова дала образцы ея, теперь разрабатывают еще несколько художников, в том числе К. Малевич, Пуни и др., дав мало говорящее название: супрематизм.
Но меня радует победа живописи как таковой в пику пропглецам и газетшине <так! — Ж.-Ф. Ж.> итальянцев.
Заумный язык (первым представителем коего являюсь я) подает руку заумной живописи[596].
Только на первый взгляд мало общего между практикой зауми у Крученых, развиваемой в эту пору («Дыр, бул, щыл…»[597]), и опытом художника, почти тогда же пишущего свой «Черный квадрат» и заявляющего: «И вот я пришел к чистым формам цвета»[598]. А квадрат он объявил «первым шагом чистого творчества», добавив затем: «До него были наивные уродства и копии натуры»[599]. Благодаря супрематизму искусство наконец стало свободным в том смысле, что оно обрело собственную реальность, или, повторим еще раз слово поэтов — соратников Малевича, стало «самовитым»:
Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым. Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма.
В искусстве Супрематизма формы будут жить, как и все живые формы натуры[600].
На основании этих примеров можно утверждать, что, хотя с точки зрения художественного воплощения творчество этих двух представителей авангарда имело между собой мало общего, оба они в своей деятельности исходили из одной и той же парадигмы. То, что перед этой парадигмой Крученых ставит знак минус, а Малевич — плюс, не имеет никакого значения. Идет ли речь о работе первого над диссонансами и даже об «анальной эротике», столь характерной для русского языка с его изобилием звука «к» (порождавшим интересные «какальные» сдвиги заумного типа[601]), или о супрематической эпюре второго, в котором свобода художественной формы становилась выражением всего сущего, — цель была одна: достичь такой степени чистоты, которая выходила бы за рамки предмета.
Чистоты представления о предмете можно достичь, только отвлекшись от него. Поэтому абстракция («бес-предметность») становится единственным художественным средством, позволяющим постичь мир в его целостности и бесконечности, а значит, в его чистоте, поскольку не может быть и речи о пределах чистоты как во времени, так и в пространстве. С этой точки зрения всякий предмет становится нечистотой поэтического порядка, поскольку он устанавливает пределы (именно те, которыми ограничен он сам) в том мире, который не должен был бы знать никаких пределов, — мире художественного изображения.
Конец авангарда и пустотаЭта амбивалентность, чтобы не сказать двусмысленность, станет позднее еще более ощутимой, когда авангард в силу внешних (исторических) и внутренних (поэтических и философских) причин, обсуждать которые мы в рамках этой статьи не будем, упрется в ограниченность систем и приемов, им самим выработанных[602]. Всякого, даже не слишком вдумчивого, читателя у Хармса поражает вездесущность грязи, проникающей во все сферы жизни: мусорные ведра, свалки, скопления пыли, плевки, падаль, рвота, крысы и тараканы; к этому следовало бы добавить оскорбления и насилие, которые также суть проявления великого разупорядочения мира. Все эти элементы в некоторой мере даже структурируют прозу писателя второго периода его творческого пути.
Грязь столь же материальна (отбросы), сколь и духовна («грязные мысли»). Она проявляется в поведении персонажей, стилистике, орфографии, структуре текста. Мир есть «симфония», как не без иронии гласит подзаголовок «Начало очень хорошего летнего дня», но симфония нового типа, в которой пьяница Харитон с «расстегнутыми штанами» выкрикивает непристойности перед бабами, стоящими в очереди, мать трет «хорошенькую девочку о кирпичную стену», а мальчишка выкопал в плевательнице «какую-то гадость»[603]. От помоек, где ослепший Абрам Демьянович шарит в поисках пищи и его среди отбросов кусает крыса («История»[604]), до дивана, под которым разлегся и сосет пыль «Катерпиллер» Мишурин («Приключения Катерпиллера»[605]); от империи Александра Вильбердата, где старики, беременные женщины, дети, зародыши и экскременты в равной степени оскорбительны для «мирного населения» и тошнотворны для славного императора («Статья»[606]), и до резни, устроенной маньяком, домогающимся реабилитации и объясняющим, почему он лизал лужи крови и испражнялся на свои жертвы («Реабилитация»[607]), — довольно примеров — все эти тексты Хармса дают образ огромной свалки, которую являет собой буквально отравленный мир, чей «син-фонизм» скорее сродни какофонии[608].
То видение действительности, которое передается прозой Хармса 1930-х годов, основано на собирании всякой мерзости, больших и малых «гадостей», что само по себе не уникально и не ново. Но зато особенно поразительно то, в какой степени этой тематике необходима ей противоположная: у Хармса нечистота всегда подана как отсутствие чистоты, более или менее тяжело переживаемое. Предметный мир пока лишен чистоты, но, очевидно, она должна воцариться, как только этот мир будет приведен в порядок, — тот именно, что является порядком поэтическим (или порядком, чаемым поэтом, но в любом случае сообразным Высшему порядку). Эта мысль очень ярко выражена в письме Хармса к актрисе ТЮЗа К. Пугачевой от 16 октября 1933 года, когда поэт, несмотря на первый арест, еще не впал окончательно в депрессию: