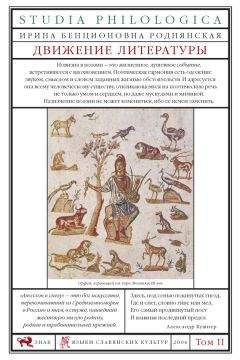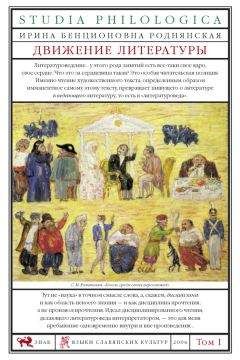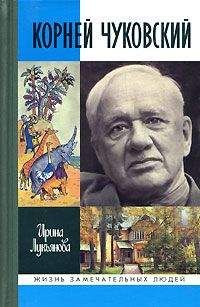Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Заболоцкий прививает этическое отношение к мирозданию – и к «этим травам, этим цветам, этим деревьям – могущественному царству первобытной жизни», «моим братьям, питающим меня и плотью своей, и воздухом»; и к «косноязычному миру животных, человеческим глазам лошадей и собак, младенческим голосам птиц, героическому реву зверя»; и – как к вершине всего живого – к тайне человеческого лица, этого «тончайшего инструмента души» (там же). Он учит пить только из чистого источника:
Заболоцкий учит достойной, «важной» мысли и речи, их небытовой красоте. Современный городской отрок погружен в разговорную мешанину, переходящую в жаргон, то же подчас вычитывает из детских книжек. Я не хочу сказать, что язык детской литературы и прозы вообще должен быть стерильным, лишенным портретного сходства с бытовой речью. Я только хочу напомнить, что нужно тщательно оберегать и другой полюс словесной культуры. Заболоцкий, как никто, понимал, каким сокровищем является русская «книжная» речь, и стоял на страже этого клада. И как сладко за ним повторять:
Или:
И с удивлением узнавать, что так писали не только в давние времена.
Но, уча и воспитывая, Заболоцкий никогда не отключает вас от источника телесной, моторной, мускульной энергии, которой он как поэт всегда обладал в избытке. Его могучий «физиологический» темперамент, его «атлетизм», мне кажется, недооценены, не вполне уловлены. Потому его и считают «степенным» поэтом, поэтом медлительных раздумий – неосновательно «старят» его творчество. Между тем еще «Столбцы» дали выход бешеному напору сил, молодой ярости, расшатывающей дисциплину стиха. И никак не меньшая энергия, мощный ритмический поток, ворочающий и увлекающий за собой глыбы образов, – в стихах зрелого, «певучего» Заболоцкого: перечитайте «Соловья», «Грозу», «Дождь», «О красоте человеческих лиц». Если где-нибудь Заболоцкий и вял, так это в стихах 30-х годов, написанных специально для детей; видимо, он не решался развязывать «страсти» детской игры, в ней ему тогда виделось что-то инстинктивно-первобытное, опасно-неукротимое:
Это – из эпохи «Столбцов»: «Игра в снежки». [279] Заболоцкого, видно, самого пугала экспрессия таких «брейгелевских» картинок. Но тот заряд энергии, который Заболоцкий не посмел донести до детей в профессиональной работе для них, они получат из совсем иных его стихов. Я однажды слышала, как в крымском курортном поселке какая-то девчонка, должно быть семейно причастная к литературе, гудела и выкрикивала в раскопанную здесь же археологами греческую амфору – упивалась ритмом и прекрасным полнозвучием слов:
И не беда, если она еще не знала, что значат в этом стихотворении («Гурзуф», I, 242) таинственно волнующие «стон Персефоны и пенье сирен». Пусть спросит у старших, пусть прочитает в примечаниях…
«Сердечная озадаченность»
Отвечая генеральному секретарю Федерации Авербаху <…> Виктор Шкловский спокойно сказал:
– Вы хотите переделать Платонова? Вы его не переделаете, его нельзя переделать, потому что Платонов – гениальный писатель!
Глядя сегодняшними глазами на Заболоцкого и Платонова, на определительный для их судьбы и творчества период начала 30-х годов, мы, кажется, начинаем понимать, что стоим перед загадкой. И что нынешней возможностью писать и думать о том времени без вынужденных оговорок загадка эта не только не приближается к выяснению, но, напротив, углубляется. Родственности двух художников я здесь доказывать не буду, она давно очевидна, да и исследовательски раскрыта – от общего философического корня, растущего из федоровских интуиций, до общих художественных задач, невыполнимых без некоей «варваризации» классического искусства. Всего такого еще придется коснуться по ходу дела. Но меня в данном случае волнует не сродство этих двоих внутри достаточно широкого круга русских «космистов», а что-то более специфичное: однотипность загадки. Ибо сопряженность с Заболоцким, очень большим поэтом, отмеченным чертами гения, выводит Платонова из его творческого одиночества и делает его непостижимый художественный опыт, при всей исключительности, в чем-то типичным, представительным, а значит, конкретно-социальным явлением. Тут еще важно помнить, что загадка была загадана в пору, так сказать, предсоцреализма, когда новая доктрина управления литературой, еще в рапповских одеждах, атаковала литературный мир (с тем, чтобы спустя два-три года эти одежды безжалостно сжечь и справить окончательное торжество уже в новеньком государственном мундире). Ну, а на каком историческом фоне вершились литературные дела, и так понятно.
комментировал Заболоцкий на темном своем языке. Поскольку речь пошла о социальных сторонах, стоит вглядеться именно в те, писавшиеся в означенное время, вещи, которые немедленно стали «публичными» фактами, разворошили литературную обстановку и рикошетом повлияли на судьбы своих создателей. «Котлован» и «Чевенгур» при жизни Платонова не увидели света, то же самое случилось с «Безумным волком» и «Школой жуков» Заболоцкого. Но «бедняцкая хроника» «Впрок» (1931) и поэма «Торжество Земледелия» (1929–1930, опубликована в 1933) вышли в тогдашних толстых журналах и приняли огонь на себя. Предыдущие и последующие внешние события вокруг обоих имен тоже были едва ли не симметричны. До выхода в свет хроники и поэмы идеологическая критика уже опробовала зубы на «Усомнившемся Макаре» и «Столбцах»; каждый из писателей был причислен «к лику нечестивых» (как говорит о себе Заболоцкий, откликаясь в одном из писем на разнос «Столбцов»); однако критические погромы тогда еще не окончательно превратились в официальные инструктажи (или это превращение еще не было уловлено редакторами), и Платонов, а вслед Заболоцкий были снова выпущены на журнальные страницы – нераскаянными, продвинувшимися дальше по свойственному им пути. После чего уже последовал такой залп (в случае Платонова – при личном участии Сталина; но, судя по аналогичному истязанию Заболоцкого, осуществленному и помимо этого участия, роль вождя не стоит преувеличивать), такой обстрел, что последующий литературный путь обоих не обошелся без мучительных ревизий. Оба писателя, несколько отдышавшись и воспользовавшись роспуском литературных группировок, похоронами РАППа, выступают с объяснениями, исполненными достоинства и покорности одновременно: Платонов – с «Возражением без самозащиты» (1937), Заболоцкий – с речью на ленинградской дискуссии о формализме (1936). О состоянии Платонова после 1931 года его исследователь Л. Шубин напишет: «… Началась рефлексия, а с ней и медленное отступление писателя»; и действительно, уже в «Ювенильном море», сколь тесно ни примыкает оно к «Впрок», видны черты «отступления». У Заболоцкого же внешний перелом участи совпал с назревшим внутренним, его отступление совершилось более радикально и, вместе с тем, менее драматично, художественно он добился если не выигрыша, то «ничьей». Все метаморфозы, как мы знаем, не избавили ни того, ни другого от последующих гонений, каковые, однако, их не сокрушили. Но это уже иной разговор, а мы обратимся к «Впрок» и «Торжеству Земледелия».