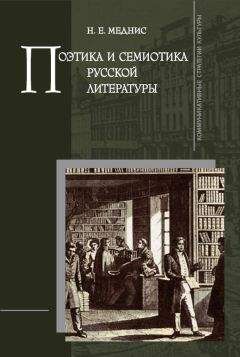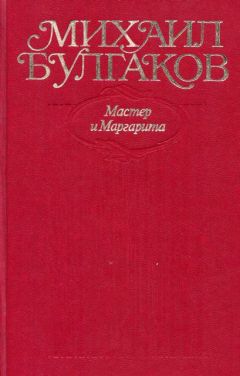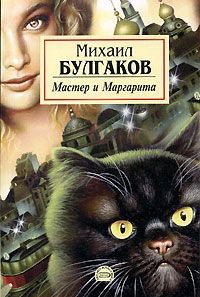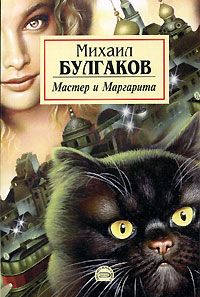Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
А вот еще одно объяснение иронии, которая, по слову Н. Я. Берковского, «пробирается из строки в строку»[140]: «Марья Гавриловна намерена кинуться в абстрактное пространство, где нет ничего иного, кроме любви и романтической метели, но отмечены на Марье Гавриловне шаль, капот, отмечено, что с ней шкатулка… Два узла в руках – парадоксальная, обременительная подробность, когда рассказывается о девушке, задумавшей переменить благополучную жизнь с родителями на неблагополучную с возлюбленным. Повесть слегка, но приметным все же образом внушает, что главным препятствием к возможному счастью прапорщика-романтика была сама невеста, носительница шалей и капотов».[141]
Исследователь уверен, что повествование намеренно ведется так, чтобы дискредитировать героиню; иначе, по логике такого чтения, незачем и упоминать об «узлах» и «шкатулках», «шалях» и «капотах». Мы видим, что повествование как бы провоцирует в читателе рождение уличающей направленности его сознания, некую подозрительность. И недоверие к героям у такого читателя порой принимает уже глобальные размеры: под подозрение берется все; даже в сообщении о том, что «бедная больная две недели находилась у края гроба», усматривается ирония в адрес «бедной больной». И вот Г. П. Макагоненко пишет: «Расстроившаяся свадьба любящих, рухнувшее, казалось бы, такое близкое счастье не потрясло Марью Гавриловну»[142].
Вывод странный и совершенно противоположный прямому смыслу рассказанных событий. Ключом к такому прочтению опять оказывается пресловутая пушкинская ирония: «Всесильная пушкинская ирония все ставит на свои места; условный литературный характер любовного увлечения передан стилистически – Марья Гавриловна помнила своего романтического героя и память его «казалась» ей даже священной… «по крайней мере» она берегла его книги, рисунки, ноты»[143]. Пересказав таким вот образом текст и сославшись на пушкинскую иронию, Макагоненко пишет о «формальной памяти и этикетном характере ее закрепления»[144].
По общей логике литературоведов получается, что Пушкин как бы «намекает», «подмигивает» умному читателю: мол, смотри в оба, не верь ни одному прямому смыслу слова – исследователи, буквально заколдованные повествовательным тоном, перестают видеть очевидное, сомневаются в самых безусловных вещах. Результаты таких прочтений бывают поистине плачевны. Например, Макагоненко приходит к таким выводам: «Когда на горизонте «помещицы» Марьи Гавриловны появился выгодный жених – молодой и богатый полковник Бурмин, о котором вздыхали все маменьки и девицы в округе, практичная и прозаическая Марья Гавриловна умело и ловко повела «:военные действия»: «…положила ободрить его большею внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию», в чем и преуспела, приведя дело к ею же самой приготовленной «развязке». Неожиданное соединение случаем мужа и жены – Бурмина и Марьи Гавриловны – счастливо для обоих. Но автор иронией дает нам понять, как прозаично, как неглубоко, как примитивно определится это счастье. Судьба Марьи Гавриловны обусловлена законами ее среды; выйдя замуж, она повторит цикл жизни ненарадовских помещиков»[145].
Итак, по мысли автора, Марья Гавриловна «военными действиями» добывала себе выгодного жениха. И это пишется всерьез, хотя на глазах читателя «практическая и прозаическая» «невеста» говорит «жениху»: «…я никогда не могла быть вашей женою…», а общий смысл объяснения в любви героев повести именно и состоит в том, что они признаются друг другу в своей тайной несвободе для счастья и любви. Их объяснение есть не что иное, как прощание любящих, безусловное и навечное, но «проницательный» читатель оказывается слеп и глух к подлинному высокому и лирическому смыслу повести.
Начиная еще с Белинского, который вообще отказал «Повестям Белкина» в значительности содержания, и до сегодняшнего дня некоторые весьма устойчивые предрассудки, далеко не случайные, определенные исторически, по-видимому, мешали исследователям «Повестей Белкина» проникнуть в высокую идею их замысла. Одни литературоведы видят в них литературную пародию (В. В. Гиппиус), другие – социальную критику (Г. П. Макагоненко), третьи – формальный литературный эксперимент (Б. Эйхенбаум). Нам же представляется, что одна из задач Пушкина состояла в том, чтобы воссоздать самобытный, цельный, героический русский характер, проявить те моменты в сюжетах русской домашней жизни, когда этот характер приоткрывает свои глубинные, скрытые под покровом обыденной жизни основания; без этого, почти невидимого, фундамента человеческой личности, который является залогом ее подлинной индивидуальности, «не существует и человеческого величия». Именно так сформулирована эта мысль в «Барышне-крестьянке», и она явилась путеводной звездой этого опыта чтения «Повестей». Свою версию замысла повести «Метель» мы начнем с разъяснения этого «тона иронии», к которому как к универсальному доказательству апеллируют все ее исследователи. Одна из первых фраз, которая знакомит читателя с героиней повести, выглядит иронической характеристикой и представляет собой такую формулу: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена». Эта сакраментальная фраза, на мой взгляд, гораздо больше говорит не о личных качествах героини, а о кругозоре и жизненном опыте повествователя: он живет в то время, когда на его глазах русская провинция повсеместно усваивает уроки европейской культуры, причем, с одной стороны, еще не ушла в безусловное прошлое традиция домашнего, исконно русского воспитания девушки, так сказать, «в отеческом законе»[146], и, следовательно, «невлюбленная» девица еще не редкость, а с другой стороны, обязательным следствием новомодного европейского воспитания оказывается «влюбленность» юных уездных барышень. Поэтому не насмешку и пасквиль вижу я в этой характеристике Марьи Гавриловны, а только лишь следование автора жизненной правде своего времени. Итак, состояние «влюбленности» героини есть историческая реальность, это скорее форма осуществления личного начала в человеке, свойственная русскому дворянину именно начала XIX века, нежели безусловная данность, от века присущая человеку как одно из онтологических его состояний и качеств.
На русской почве идея «влюбленности» европейской культуры только начинает осваиваться в самом начале Х!Х века массой образованного дворянства; европейская куртуазная, галантная, сенти-менталистская идея «любви» организует новые сюжеты в домашней жизни России, один из которых представлен в повести «Метель».
Нужно отметить, что русский мир понимает жизненную роль героини изнутри своего родового, патриархального мировоззрения; вот его суждение о Марье Гавриловне: «Она считалась богатой невестою…» «Богатая невеста», однако, мыслит о самой себе на языке французских романов: она осуществляет идею свободного выбора, и ее шаг свободы – это брак по любви, а не по сговору. Повествователь, вводя читателя в курс событий, дает такую формулу этого свободного выбора: «Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне». Взятое из перифрастического языка французского романа слово «предмет любви» явно принадлежит языку героини, но, помещенное в контекст русской прозы, оно предательски обнажает свой прямой смысл «предмета», то есть вещи, своей воли не имеющей. Следующая фраза экспозиции повести звучит еще более жестко: «Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию…» Сюжет свободы в любви в таком изложении приобретает явно противоречащую ему ироническую транскрипцию: «богатая невеста» выбирает свой «предмет», который, будучи беден, с необходимостью отвечает ей взаимностью. Кажется, что в экспозиции повести обозначен сюжет, подобный любовному роману Софьи и Молчалина из комедии Грибоедова «Горе от ума». Убежденный в ироническом отношении автора к своим героям, читатель оказывается во власти определенного стереотипа чтения, он уже отправлен по ложному следу, он ищет тайный низкий смысл в поступках героев, он ждет «разоблачения» героев.
Тем не менее простодушные герои повести «Метель», кажется, даже не допускают мысли о том, что их имущественное неравенство ввело свои прозаические коррективы в их поэтическое чувство. А ведь именно это «само по себе разумеется» для уличающего сознания читателя. Сами же герои исходят из версии своей свободы и, безусловно, не сомневаются в том, что они пламенно любят друг друга. Очевидно, что Владимир, чтобы уважать себя, должен быть уверен, что любит именно саму Марью Гавриловну, а не возможность через брак с ней устроить свои жизненные обстоятельства. Очевидно и то, что Марья Гавриловна не сомневается в том, что она достойна любви и самоценна, что она для своего возлюбленного не тождественна своей роли «богатой невесты». Герои осуществляют в своих отношениях программу поэтического, романного поведения, реализуют в своей жизни высокую версию о самих себе и бесстрашно идут до конца. Уклад крепкого родового быта, его традиции и мировоззрение, в сущности, отменяли для «бедного прапорщика», которого родители Маши «принимали хуже отставного заседателя», и «богатой невесты» возможность утвердить собственную человеческую самозначимость.