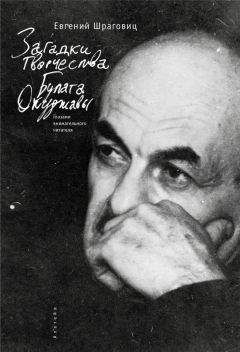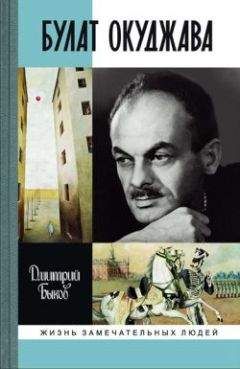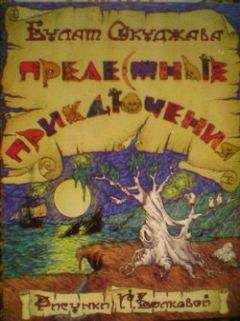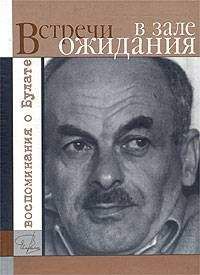Леонид Пинский - Реализм эпохи Возрождения
Извлекая единственный в своем роде эффект из наивно эпического восприятия фабулы, Сервантес в начале второй части сводит своего героя с читателями, которые обсуждают его деяния, описанные в первой части. К концу повествования Дон Кихот встречается также с читателями «подложного» романа Авельянеды и, более того, даже с персонажем этой «лживой истории», доном Альваро Тарфе, который тем самым также оказывается вполне «реальным» лицом. Впоследствии немецкие романтики (Тик, Гофман) подражали этому комическому приему, но в романе Сервантеса он более оправдан и выполняет существенную для коллизия двойную функцию: во-первых, оттеняет единство героя с народным фоном, а во-вторых, высмеивая увлечение рыцарскими романами, обнажает наивность отождествления художественной правды с обыденной. Прием, основанный на смешении действительности искусства с действительностью жизни, как нельзя более органичен в романе, где герой принимает поэтический вымысел за реальный факт.
Впрочем, в эпоху Сервантеса вряд ли кто-либо вполне сознавал новаторское значение его романа как первого великого сюжета-ситуации. Даже образованный автор поддельного «Дон Кихота», скрывший себя под именем Авельянеды, защищаясь в предисловии к роману от возможных обвинений в плагиате, ссылается на весьма распространенный обычай продолжения чужого сюжета:
«Пусть никто не удивляется, что эта „Вторая часть“ исходит от другого автора, ибо не ново, что одну и ту же историю продолжают различные лица. Сколько писателей рассказывали о любовных приключениях Анджелики! „Аркадий“ также сочинено множество. „Диана“ написана не одним автором»[120]. Таким образом, Авельянеда усматривает в «Дон Кихоте» всего лишь новую фабулу, вроде истории Анджелики (которую продолжали разрабатывать после Ариосто), сюжета Дианы (созданного Монтемайором), которые можно продолжать и варьировать на все лады, как фабулы новелл, часто используемых драматургами и поэтами Возрождения.
Не касаясь здесь особых идейных тенденций Авельянеды, отличных от целей Сервантеса[121], отметим только, что Авельянеда, первый «продолжатель» донкихотской темы, явно не понял существа сервантесовского сюжета, вырастающего из ситуации, без которой сюжет лишен души, – то, что становится ясным для всех последующих продолжателей, начиная, пожалуй, с Сореля в XVII веке как автора «Экстравагантного пастуха», осмеивающего увлечение пасторальными романами. Отсюда презрительное замечание Сервантеса по адресу Авельянеды, что тот не понял его замысла: «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него. Ему суждено было действовать, мне описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару-назло и на зависть… лживому тордесильяскому писаке… ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело» (курсив мой. – Л. П.).
Однако качественно иной характер истории ламанчского героя, сравнительно с предшествующими историями, раскрывался постепенно только в веках, и ее автор, вероятно, как и Колумб, не сознавал до конца всего значения своего открытия.
II. Раскрытие донкихотской ситуации в веках
Впоследствии французский критик Сент-Бёв (как и некоторые другие историки литературы) находил, что Сервантес в «Дон Кихоте» ставил себе только ограниченную задачу – высмеять модное увлечение рыцарскими романами – и что позднейшие читатели «приписывают» ему более высокие идеи, вкладывая в его сюжет «все возрастающую прибавочную ценность». Что касается всемирного резонанса «Дон Кихота», то, по мнению Сент-Бёва, его можно объяснить только «счастливой звездой»[122].
Вряд ли объяснение представляется убедительным, но «зерно истины» тезиса об «ограниченной задаче» – в творческой истории сюжета о Дон Кихоте. Центральный образ «явился» перед Сервантесом в начале создания романа, как и образы Татьяны и Онегина перед Пушкиным «в смутном сне», и значение своего сюжета Сервантес, как и Пушкин, тогда «еще неясно различал». Томас Манн по этому поводу замечает, что «как общее правило, великие произведения вырастали из скромных замыслов», ибо «честолюбию не место в начале работы, оно должно расти с творением, а не с личностью художника должно быть связано»[123].
Применительно к автору, положившему начало новому типу романа, это замечание вдвойне оправданно. Три выезда Дон Кихота – первый выезд без оруженосца, второй, где ситуация проясняется благодаря народному peaлистическому «аккомпанементу» Санчо, и третий, где оба героя вступают в большой мир политики, религии и искусства, – это как бы три этапа постепенно углубляющегося идейного замысла. Читая произведение, мы словно присутствуем при становлении творческой концепции. Но больше того, весь смысл ситуации постигается не только автором и отдельным читателем, но и всем потомством лишь постепенно, в ходе собственного развития. Содержание «вечного» образа и ситуации, «в которой отразился век», раскрывается в ходе веков, а не «приписывается» автору, не «вкладывается» в роман. Аудитория «Дон Кихота» в столетиях, как и сам Сервантес, отправляясь от внешнего плана, от осмеяния модного увлечения, постепенно приходит к постижению более серьезного, внутреннего смысла, к благородному юмору романа, и даже к оценке героя как «самого честного и высокого», о чем «люди мечтали на протяжении многих веков», но «что оказалось смешным» (М. Горький), Путь человечества («рода») в известной степени здесь повторяет творческий путь самого автора («особи»), как бы по своеобразному биогенетическому закону.
XVII век преимущественно улавливает в ситуации Сервантеса комический и отрицательный план героя-маньяка. Насколько слияние безумия с благородством и мудростью Дон Кихота еще в это время не оценивалось по достоинству, видно из того, что Ш. Сорель считает такое слияние непоследовательностью Сервантеса и нарушением правдоподобия образа, чего сам он, Сорель, счастливо избег. Герой его «Экстравагантного пастуха» парижский буржуа Лизис, сошедший с ума от чтения пасторальных романов, обрисован только как книжник и маньяк, лишенный чувства жизни. У английского сатирика XVII века С. Бетлера, автора «Гудибраса», в донкихотской ситуации, направленной против пуританства, выведены рыцарь Гудибрас, своекорыстный и лицемерный просвитерианин, и его хитроумный сподвижник Ральф, индепендент, выступившие в поход против «дьявольских» народных игрищ и посрамленные в этой борьбе. Здесь – единственный раз в литературе – донкихотские образы даже наделены отталкивающими чертами. За их «книжным» доктринерским безумием скрываются эгоистические и антинародные интересы: для понимания донкихотства в XVII веке моральные цели героя еще не имеют значения. Но при всей односторонности понимания темы Сервантеса этот век уже зафиксировал ту основу ситуации, которая – вплоть до наших дней – определила упрощенное понимание «донкихотства» в обиходной речи и в литературной полемике.
Чисто комическая трактовка сюжета сохраняется еще в XVIII веке. Она сквозит в известном замечании Монтескье, что единственная хорошая книга испанской литературы «была написана для того, чтобы показать нелепость всех остальных книг» («Персидские письма»). Но многим, в особенности в Англии, передовой капиталистической стране, уже ясен положительный и социальный смысл ситуации. Для писателей английского Просвещения, начиная с П. Мотте, переводчика «Дон Кихота», и до известного критика С. Джонсона, уже очевидно, что «в нраве каждого человека есть что-то от Дон Кихота и у каждого – своя дорогая сердцу Дульцинея, нередко вдохновляющая его на безумные приключения» (П. Мотте, предисловие к переводу «Дон Кихота», 1700). У английских романистов, последователей Сервантеса, на смену буффонному смеху приходит юмор в изображении непрактичных чудаков; за нелепостью их поступков скрывается человечность благородного сердца, которое не мирится с царящим в обществе эгоизмом и делячеством. Но героическая принципиальность испанского идальго разменена в этих английских чудаках на случайные, хотя средой обусловленные, причуды. В героях Стерна с их «коньками» («пустячками», как объясняет автор, «за которые хватается человек, отстраняясь от обычного течения жизни, чтоб улететь на часок от житейских тревог и забот») понимание донкихотской ситуации уже близко романтическому.
Новый этап в трактовке романа Сервантеса связан с немецкими романтиками. Братья Шлегели, Новалис и Шеллинг открывают в донкихотской ситуации воплощение вечной противоположности между мечтой и действительностью, поэзией и прозой, идеальным и реальным (причем образ Санчо Пансы отождествляется с фоном, контрастирующим герою). Несмотря на модернизацию мысли Сервантеса, сближенной с романтическим мироощущением, на метафизическое увековечение того разлада между человеком и жизнью, который у Сервантеса имеет более определенный смысл, на чрезмерное противопоставление главных героев, романтики в идеалистической форме уловили связь донкихотского сюжета с дисгармонией буржуазной культуры и впервые установили значительность ситуации. Отсюда общеевропейское признание, которое нашла эта концепция в XIX–XX веках, несмотря на противодействие буржуазной либеральной критики (главным образом, историков литературы), отстаивавшей старое литературно-пародийное и чисто комическое понимание романа.