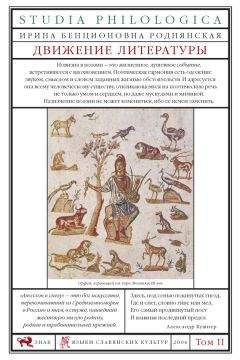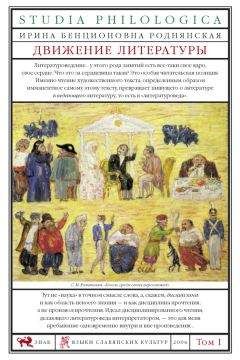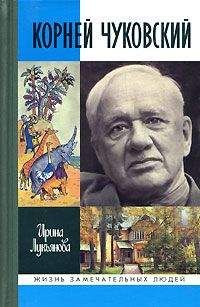Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
В последнем из упомянутых блоковских стихотворений верховный центр поэтической картины, ее творящий, организующий источник не так очевиден, не в такой мере мифологизирован и олицетворен, как в трех предыдущих примерах. Тем показательней, что и тут движение распространяется сверху вниз, из центра к периферии, от причины к следствию, то есть с соблюдением все тех же иерархических градаций: «Город в красные пределы / Мертвый лик свой обратил. / Серо-каменное тело / Кровью солнца окатил». Город (у которого, кстати, есть не только «тело», что мог бы сказать и Заболоцкий, но и «лик») как ноумен и целое выше и первичнее своих частных проявлений. Оттого именно, что он облил себя «кровью солнца», все воспламеняется жаждой разгула и пускается в пляс:
В финале, в коде оргия обретает поднимающийся над земной плоскостью голос: «И на башне колокольной / В гулкий пляс и медный зык / Кажет колокол раздольный / Окровавленный язык». Совершенно очевидно, что в символическом сюжете стихотворения есть деятели первого порядка: город, закат и колокол – и деятели второго порядка, от них зависимые. В этой почти «заболоцкой» пьесе многое уже на грани шокирующего антиэстетизма и неживой предметности. «Огненные бедра» пляшут отдельно от человеческой фигуры, словно отрезанные и гальванизированные. (Замечу, что в поэтике «Столбцов» члены тела существуют независимо от тела как высшего единства: «… ноги точные идут, сгибаясь медленно посередине», I, 352, – как бы помимо намерений собаки, которая их переставляет.) Далее, у Блока еще сглаженное и не выходящее за грань специально поэтического слога: «Мчатся бешеные дива…» – отделено всего одним шагом от заболоцкой неприличности: «Толстозадые русалки / Улетают прямо в небо. / Руки, крепкие, как палки. / Груди круглые, как репа» (1, 86). Но поскольку все же сохраняется космическое «чиноначалие», некая подчиненность частного, материального и случайного общему, духовному и первопричинному, впечатление классической проясненности и согласованности остается и от этого стихотворения.
Для сопоставления приведу с небольшими сокращениями одну из заглавных в «Столбцах» вещей. Заболоцкий, находившийся на крайнем правом фланге «левого искусства», открыл для себя вот что: дабы дезавуировать мировой чин, не надо ни зауми (коей он был, несмотря на почитание Хлебникова, ярый противник), ни даже фантасмагорических снов. Достаточно отменить некие неявные правила композиции и языковой логики. Итак, «Белая ночь» (I, 342–343):
Здесь прежде всего поражает, в сравнении с Блоком, множественность центров движения, не имеющих у себя за спиной никакой единящей и направляющей руки, никакого смыслового корня в мире идеальном. В стихотворении проходит однообразный парад субъектов и предикатов: метафорическое и реальное, конкретное и абстрактное, родовое и видовое, предмет и понятие равноправно располагаются в одном и том же ряду материального движения, нисколько не возвышаясь друг над другом. «Бегут любовники толпой» и «Любовь меняется местами» – два совершенно отдельных, разнозначных и механических перемещения в пространстве: любовь не правит любовниками (как подобало бы аллегорической фигуре), а сама встраивается в их пробежку. Музы, Невка, барабан, ракеты, деревья, сирены-девки, ночь, кусты, соловьи, Елагин, моторчик и лодки (у которых, как и у муз-статуй Летнего сада, в отличие от статуарных, застылых ночных девиц, есть даже что-то вроде психологии; вспомним «вкус к неживому»!) – всяк выплясывает по-своему и не спросясь: подходит и отходит, вертится, качается, кукует, привстает на корточки, толкается, кричит. «Сумасшедший бред» – не в фантастическом сращении образов, а в необъяснимости и несогласованности панорамы, в невозможности вопроса: что за всем этим стоит? кто здесь распоряжается? зачем это происходит? Финальный, будто бы обобщающий образ белой ночи («Так недоносок или ангел…») подводит происходящему лишь мнимый итог: хотя бы потому, что это образ последнего ничтожества, небытия – заспиртованный эмбрион, позаброшенная жертва мировой круговерти. Если вспомнить, как Блок опять-таки в 1904 году вопрошал мироправительницу-ночь, плывущую «в бледно-фосфорном сиянье»: «Кто Ты, Женственное Имя / В нимбе красного огня?», [264] – контраст получится почти комический. И, боюсь, будет понят не в пользу Блока, ибо дискредитирующие образы в наше время кажутся более честными, что ли, чем возвышающие, – в этом их подвох, их недоброе лукавство. (Дискредитирующее снижение – глобальная, типовая черта «нового искусства». Если прежде, пишет в вышеупомянутом эссе X. Ортега, начиная с глубокой древности, метафорический «образ использовался с декоративной целью, с тем, чтобы разукрасить, расшить золотом любимую вещь», то в новом поэтическом творчестве «отмечается странное преобладание очернительных образов, которые вместо того, чтобы облагораживать и возвышать, снижают и высмеивают бедную реальность… Лирическое оружие обращается против естественных вещей, ранит и убивает их». [265])