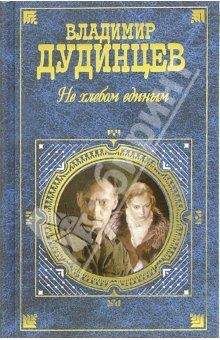Лев Аннинский - Откровение и сокровение
«Краснорожий заместитель военкома, к которому я попал, прочёл моё короткое заявление и уставился на меня проницательным взглядом:
– Чего натворил? Выкладывай!
Я его не понял, и он терпеливо объяснил: сейчас, мол, добровольцами идут книгочеи, мальчишки, отчаявшиеся люди или набезобразничавшие мужики.
– Выкладывай! Выкладывай! – поощрил он. – Упёр чего? Пришил кого? Утерял карточки? Всё равно узнаю…
У меня закружилась голова – после похорон я не мог ни есть, ни спать».
К какому разряду нам придётся отнести новобранца-добровольца?
Книгочей? Да, книгочей. Бешеный по неутомимости читатель, только чтением и согревавший душу в заледеневшем игаркинском бездомье.
Мальчишка? Да, мальчишка, осознавший свою связь с теми мальчишками, что рушились наземь в горевших и заледеневших самолётах.
Отчаявшийся?! Да! Потому что никак не увязывается в сознании цветастая занавесочка в доме баушки – с кровавой завесой над полями мировой истории.
Набезобразничавший мужик? В какой-то степени и это, если поставить в строку такое лыко, как дебош в школе или воровство дров в брошенном здании игаркинского театра.
Иначе говоря: чувство греха в острейшей, до обморока доводящей форме свойственное Астафьеву.
Чувство искупления.
Чувство самопожертвования, неотвратимого на этом пути.
И ещё что-то, невообразимое ни в каком героическом официозе, но властно толкнувшее Астафьева туда, где новобранцы поют: «Вставай, страна огромная!» и в масштабах огромной страны навсегда обрывается счастливое детство.
Что же в итоге? Утраченный рай? Возвращённый рай? Горячечный самообман? Горькое отрезвление? Целостный портрет (и автопортрет времени) или пересверк жалящих осколков? Иначе говоря: «Что такое жисть?»
Застывающий хаосЧто может удержать дом от распада и мир от абсурда?
Крыша над шаткими стенами. Господь-Бог. Тот, о Ком без конца твердит баушка, попрекая внука безбожием.
Чисто количественно – во втором томе «Последнего поклона» упоминаний Всевышнего заметно больше, чем в первом. Главное: сам тон этих поминаний изменился – за два десятка лет, в кои возрастал герой (и за два десятка лет, кои писатель работал над текстом).
В первом томе Бога практически нет, и отсутствие его – практически же – не слишком ощущается. Нет и нет. Ни в душе, ни в окружающей реальности.
Во втором томе безбожие вроде и сохраняется, но всё острее высвечивается. Извне. Из объективной реальности. Точнее, из её безобразий.
«Я же не просто второгодник, я ещё и атеист-безбожник… Трепет, умиление и всякая подобная чепуха неведомы мне».
Это провокационный ответ на весёлое баушкино увещевание: «От Бога морду не вороти».
Стиль диалога, в ходе которого баушка, «прижав икону Спасителя к животу, шлёпает в опорках по переулку, а за нею тащится дед, зачем-то прихватив с собою лопату», – невзначай поворачивается из потешности в патетику, когда внук узнаёт (случайно!), что баушка в молодости (в царское ещё время!) совершила паломничество в Лавру. С берегов Енисея – на берега Днепра! И не в опорках, не под охраной деда с лопатой, а из чистой веры. И более всего восхитило внука то, что всю жизнь (при Советской уже власти) хранила бабушка этот эпизод своей биографии в глубокой тайне. И правильно делала! – уберегла веру от кощунства этой власти.
А идёт кощунство не столько от власти, присылающей в деревню уполномоченных с агитками, сколько от самого деревенского люда. От односельчан. Едва власти церковь закрыли и попа забрали, как мужики всё в ней побили, ребятишки, балуясь, стали звенеть в колокола, кто-то, чтобы звон не мешал спать, обрезал верёвки, и колокола упали, после чего их доколотили камнями.
«Боже, Боже! – восклицает Астафьев и задаёт себе (и нам, читателям) всё тот же проклятый русский вопрос: – Что есть жизнь? Что с нами произошло? Куда делась наша добрая душа? Куда она запропастилась-то? Где? – и, не в силах найти ответ в своей безбожно обделённой судьбе, завершает повествование бессильной молитвой: – Боже праведный!.. Спаси и сохрани нас!»
Интересно, что таким же отчаянным библейским оберёгом завершается и «Царь-рыба».
А в «Последнем поклоне» задана ещё одна гипотетическая возможность соединить распадающуюся реальность в нечто единое. Это – политический обруч, который стянул бы шатающиеся стены, а вместо гнилых рухнувших возвёл бы стены новые. Тюремно-лагерные. И если поначалу «политика» маячит где-то на периферии действия, то по ходу повествования (и повзросления героя) она всё жестче замыкается в цепь. И не только в картинах раскулачивания, но и в позднейших, включая борьбу с перегибами и выправления курса.
«Мудрая ж политика – уничтожат, а потом спохватятся: „Ах ты, разахты, опять перегиб! Опять нас, наставников, охранителей передовой морали и строгого порядка, кормить некому! Сыскать мужика! Куда-то спрятался, хитрован? Мы за него работать должны?!“»
Один этот пассаж стоит всей перестроечно-либеральной публицистики; по жёсткости протеста Астафьев становится здесь вровень с таким чемпионом ненависти к Советскому государству, как Солженицын, у которого эта ненависть ещё и облечена в математически выверенную систему.
Фраза Солженицына, взятая Астафьевым в эпиграф к финальной главе «Последнего поклона», показывает, что именно он ищет в книгах автора «Архипелага»:
«Хаос, однажды выбранный, хаос застывший – есть уже система».[27]
Системы нет в несколько хаотичной композиции «Вечерних раздумий» – финальной главы «Последнего поклона». Тихо умирает в своём углу баушка, незнакомые однофамильцы бомбардируют Астафьева письмами в надежде, что они ему дальняя родня, заодно объясняя, что их фамилия означает по-гречески, а он шлёт запрос в Красноярскую прокуратуру, требуя объяснить, за что в 1931 году упекли его отца; оттуда отвечают, что упекли ни за что, и прилагают справку по всей форме…
На стержень какой системы можно насадить этот ворох чуши, лжи, чепухи и искреннего помешательства? Что с этим хаосом делать? Кто виноват?
На этот вопрос в свойственной ему ёрнической манере отвечает ни за что посаженный и ни за что выпущенный отец писателя: «Ворошилов виноват».
Ну, ещё бы! В 60-е годы, когда Астафьев писал первые главы «Последнего поклона», ему и в голову не пришёл бы такой закидон. Хотя папаша подобные шуточки отпускал, как и все люди его пошиба. Но первый красный офицер был ещё жив и даже носил декоративные лавры главы государства. Однако в печати его трогать было не велено. Да Астафьеву и незачем было: ничего бы Ворошилов не прибавил к его «Поклону», когда от имени всех властей молчаливо представительствовал там товарищ Щетинкин.
К 1991 году ситуация позволила разморозить этот синодик, и рядом с Ворошиловым стало возможно помянуть в ненавистном ряду весь властный ареопаг во главе с «обезьяноподобным грузином», и дальше – его преемников вплоть до Брежнева, который выдал всем фронтовикам «за просто так по ордену Отечественной войны», а себе Золотую звезду героя, «чтоб „незаметно“ было».
Я в принципе терпеть не могу такой разрешённой охоты, но в данном случае склонен её стерпеть – по причине совершенной искренности автора и ещё по причине того, что метит он в этих выплесках ненависти не столько в верха, сколько в низы власти. (Точно так же, отпустив пару язвительных замечаний по адресу корифеев социалистического реализма, главную скверну открывает в текстах провинциальных борзописцев, тачающих повести и романы по спущенным сверху лекалам).
Нет, не мифический Ворошилов – объект тяжёлой ненависти Астафьева, а местные начальники, понастроившие особняков по берегам Енисея и перегородившие заборами и милицейскими постами вековые тропы-дороги.
А ещё мерзее, вонючее и презреннее – какой-нибудь односельчанин, выскочивший в уполномоченные на волне «Великого Перелома». Вдоволь накуражился такой деятель овсянского масштаба, нагулялся на обысках, выселениях и экспроприациях, однако дожил до старости, опустился, потерял облик. Теперь торчит в пивной, допивая из чужих кружек. Иной недорезанный куркуль, чудом же доживший до наших дней, плюёт в кружку: «Ты, курва, помнишь, как зорил наших, голодил их, обирал, а теперь у меня же допить просишь?» – «Помню, помню. Как не помнить, – скажет бывший уполномоченный, а если дадут выпить, то и заплачет. – Дурак был».
Дурак – спасительный громоотвод для нашего интеллекта.
«Один русский дурак, – подхватывает Астафьев, – может наделать столько дел и бед, что тысяче умных немцев не исправить».
Это звучит особенно проникновенно в сочетании с тем тошнотным обмороком, в который едва не упал он, когда новобранцем пошёл посмотреть на первого убитого им немца. Лучше не смотреть. Лучше остаться в пределах чистого разума. В общепринятых философемах русский дурак даже один тысячу немцев по-суворовски превзойдёт.