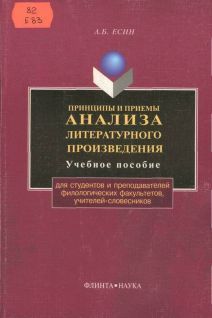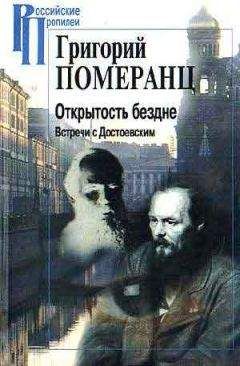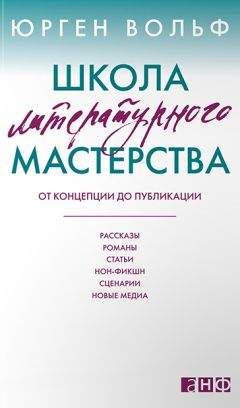Андрей Ранчин - Вертоград Златословный
Так в «бытовом» рассказе о возвращении с рыбной ловли проступают сакральные смыслы, которые явным образом не выражены, но несомненно предполагаются автором Жития.
С. А. Демченков соотнес Житие Аввакума с пророческими книгами Библии; при этом он сделал необходимую оговорку, что «пророчество представляет собой полижанровую структуру», но в него могут входить и «элементы биографического повествования». Преемственность по отношению к пророческим книгам исследователь обнаружил и в сочетании «субъективизма лирического самовыражения с эпической дистанцированностью повествователя от предмета повествования», и в диалогизации повествования (диалог «Я — Господь»), С. А. Демченков привел многочисленные текстуальные (фразеологические) и ситуационные параллели между пророческими книгами и Житием Аввакума [Демченков 2003. С. 8–9, 22].
Пророческие книги, естественно, не являются единственным образцом Жития Аввакума; сам С. А. Демченков, например, пишет, что в Житии наличествует «двойной символический сюжет» и что «[ж]изненный путь Аввакума под его пером превращается в биографию пророка и одновременно — в крестный путь Христа» [Демченков 2003. С. 23]. Но в плане семантики пророчества принципиально отличны от Жития Аввакума, поскольку совершались до пришествия Христа. В Новом Завете неоднократно говорится, что все пророчества были до Иоанна Крестителя (Мф. 11:13; Лк. 16:16). Христос, говоря об эсхатологической перспективе, упоминает лишь о грядущих лжехристах и лжепророках (Мф. 24:11, 24). Правда, в Деяниях святых апостолов упоминаются пророки (11:27, 13:1), но это не пророки христианской общины, а собственно иудейские. Есть исключение: упоминание о пророках христианской общины в Первом Послании Коринфянам (14:29–32; см. также: Еф. 3:5; 4:11 и — в эсхатологической перспективе — Откр. 11:10). Однако в христианской традиции было принято понимание, что пророки «были предтечами евангельского откровения; пролагая путь Богочеловеку, они возвещали высокое религиозное учение» [Мень 1991. С. 10]. Потому Аввакум не мог, кажется, непосредственно ставить себя на место библейских пророков (хотя в редакции В Жития он «настойчиво называет себя пророком» [Демкова 1974. С. 94]).
Указание С. А. Демченкова, что пророческая проповедь предполагает, что «[п]очти неизбежная катастрофа всё ещё может быть предотвращена» и что из этих же представлений исходит и Аввакум [Демченков 2003. С. 22], небесспорно. Для протопопа нынешнее время — непосредственное преддверие времени пришествия Антихриста; не случайно он, не принимая «никонианского» епископата, но при этом дозволяя служить покаявшимся священникам нового поставления, замечает, что «сие время ис правил вышло» (цит. по: [Бороздин 1998. С. 184]). Такое радикальное несоблюдение правил возможно только в «последние времена». Действительно, в противоречии с таким представлением протопоп «до самых последних дней своей жизни <…> верил в православную Русь древней веры и возлагал надежды на ее восстановление»[605]. Однако проповедничество Аввакума во многом отлично от пророческого обличения как средства для покаяния согрешивших. Хотя он и призывал царя Алексея Михайловича[606], а затем и Федора Алексеевича восстановить порушенное «древлее благочестие», его наставления обращены преимущественно к «верным» и нацелены на обличение их грехов и охранение от соблазнов; это проповедь твердости в вере.
У Епифания и у составителей более ранних автобиографических повествований отношение к описываемым событиям как к сакральным обусловливалось участием в них сверхреальных сил. И Мартирий, и Елеазар, и Епифаний далеко не всё из того, что произошло с ними, считают священным — и прежде всего, они сами не притязают на святость. В Житии Аввакума, наоборот, сакрально любое пространство, в котором оказывается автор, и любое событие, участником которого он становится. Аввакум считает себя вправе приписывать священный смысл описываемым поступкам и действиям, даже если на сторонний взгляд эти поступки и события обыденны, обыкновенны. Иными словами, у Епифания и других книжников — составителей автобиографических повествований сакральное традиционно, Аввакум же наделяет происходящее вокруг сакральным смыслом исключительно по своей воле. В Житии роль составителя принципиально иная, нежели в других автобиографических текстах; поэтика этого произведения также резко отличается от поэтики Мартирия, Елеазара и Епифания. Они, в отличие от Аввакума, не уподобляли эпизодов своей жизни событиям земной жизни Христа и деяниям апостолов; Аввакум же не просто находит сакральные смыслы в церковной традиции — текст Жития сам порождает их. Лишившись реминисценций из Библии, описания мучений Аввакума воеводой Пашковым, повествование о тяготах даурской ссылки протопопа и особенно рассказ о возвращении с Шакши стали бы «бытовыми» эпизодами, полностью утратили бы значение священных событий, которое придавал им автор Жития.
Исследователи творчества Аввакума и конфессиональной ситуации раскола русской церкви объясняют возникновение автобиографических повествований Аввакума и Епифания эсхатологическим переживанием наступивших времен, когда сакральное начало проникает во все повседневное существование[607]. Это бесспорно справедливое истолкование, однако, не может объяснить появления автобиографических элементов в произведениях более раннего времени — в Повести Мартирия Зеленецкого и в Записке Елеазара Анзерского. Возникновение этих автобиографических повествований связано с новым отношением книжников к собственному «Я» как к сопричастнику божественных откровений и чудес и с почти физическим ощущением чудес, явленных в земном мире. Перемены в самовосприятии и в мироощущении древнерусских книжников XVI–XVII вв., возможно, — частное следствие эволюции религиозного сознания и культуры. В XVI веке формируется теория Москвы — Третьего Рима, в следующем столетии получившая по существу государственное значение. Земное русское царство становится вместилищем и хранителем благодати Царства Небесного. Из этого представления должно было следовать новое отношение личности к сакральному началу: «Я» не только становится созерцателем чудес, но и само при этом входит в сакральное пространство; потому свидетель чуда вправе сам писать о себе, о явленном ему небесном посещении. XVI век — период религиозных споров: основы веры становятся предметом рефлексии, вырабатываются правила церковной и мирской благочестивой жизни. «Я» становится как бы активнее, действеннее в стяжании благодати, в устремленности к божественному. Внимание к символизму, к иерархическому строению мироздания прослеживается и в религиозной полемике на соборе 1553–1554 гг., и в сочинениях книжников XVI в. (Зиновия Отенского, Ермолая-Еразма, игумена Артемия и других). Оно привело к новому переживанию земной реальности как самораскрытия мира небесного: божественное приблизилось к человеческому. Следствием рефлексии над отношениями сверх-реального бытия и повседневности стало наделение мира земных вещей божественным смыслом, установка (проявившаяся в градостроительстве, в иконописи и фреске, в архитектуре) на запечатление красоты небесной в красоте земной, на придание подобиям святости первообразов. Земное пространство сакрализовалось[608]. При этом естественно возрастала роль личности — того, кто раскрывал и обнаруживал священное в обыденном. Парадоксальным образом такая «пансакральность» в итоге привела к секуляризации культуры: «неразличение» божественного и земного обернулось сужением сферы сакрального. В напряженном визионерстве и в размыкании границ между «Я» и миром, в интересе к повседневному автобиографические повествования XVI–XVII столетий отразили тенденции времени.
Эсхатологические и апокалиптические мотивы в сочинениях протопопа Аввакума
Мотивы эсхатологические (связанные с идеей конца света) и апокалиптические (представления о грядущем Страшном суде), естественно, проходят через множество произведений старообрядцев XVII в. Обрядовые изменения, осуществленные по указанию патриарха Никона, были восприняты ими как свидетельства возросшей власти дьявола над лежащим во зле миром и как знамения грядущего пришествия Антихриста, которое должно произойти незадолго до конца света. Никон первоначально был осознан как сам Антихрист, искушающий людей под видом пастыря Христова, а затем — как Антихристов предтеча: Антихрист уже народился, но еще не пришел в мир.
Тем не менее, и на этом фоне сочинения Аввакума выделяются напряженностью и остротой эсхатологического и апокалиптического видения. У этого книжника оно приобретает глубоко личностный эмоциональный характер и становится неотъемлемой частью поэтики и семантики, многое определяющей в индивидуальной (хотя и опирающейся на церковную традицию) образности пустозерского узника.