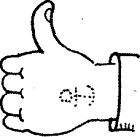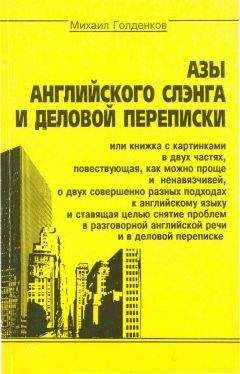Валентина Заманская - Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий
«Вы пытались вообразить себе мир без себя: но в сознании непосредственно Я, – только оно и обусловливает мир, только для него последний и существует. Уничтожить этот центр всякого бытия, это ядро всякой реальности, и в то же время сохранить существование мира – вот мысль, которую можно абстрактно подумать, но которой нельзя осуществить… мир не в меньшей мере находится в нас, чем мы в нем, и… источник всякой реальности лежит в нашем внутреннем существе… время, когда меня не будет, объективно придет, но субъективно оно никогда не может прийти», – за век до Иванова «расшифровал» значение ивановского «без-образия» А. Шопенгауэр.
Наступающая скука мирового без-образия означает утрату прежних людей, чувств, музыки, веры. Это наблюдал в смерти Бунина Г. Адамович: жизнь уходит из человека, сужающееся пространство Я вытесняет пространство жизни – мало что мило, дорого, все тускнеет, становится несущественным. Так от «Портрета без сходства» к «Дневнику» углубляется тема полужизни, полуусталости, выливаясь в строфу пушкинского образца, но очень ивановскую по содержанию и интонации:
Полу-жалость. Полу-отвращение.
Полу-память. Полу-ощущенье.
Полу – неизвестно что…
На магистрали этой темы возникает еще один сюжет уходящей жизни – наступающей неизбежности: память любви. Это последнее, за что борется, на что достает сил в полу-жизни человека как такового. Еще жив миг: Вот наша жизнь прошла, / А это не пройдет, – но и миг уже обречен: Даже к тебе я почти равнодушен. / Даже тебя мне почти уж не жаль. Постепенно нарастает тема взаимного непонимания, которая изнутри комментирует важнейший мотив толстовской повести «Смерть Ивана Ильича», андреевского сюжета смерти Лаврентия Петровича: непонимание живого и мертвого, обреченного и остающегося жить. Видимо, надо пережить (или поверить Толстому, Андрееву, Иванову, Шестову) бездну обиды, отделяющую еще живого от остающихся жить, чтобы подвести столь безжалостный итог: И какое мне дело, что будет потом, и высказать не менее жестокое предвидение: И кому какое дело, / Что меня на свете нет? Может быть, самый жестокий итог жизни в том и состоит, что непонимание – удел всех, когда ему настанет строк: Что связывает нас? Всех нас? Взаимное непониманье. Так довоплотилась прежняя тема: от непонимания обреченного на свободу человека в «Розах» до непонятого Пушкина с его смутной, чудной музыкой, / Слышной только ему (и поймет его Иванов лишь через объединившую их экзистенциальную ситуацию: Вам пришлось ведь тоже трудно умирать, до непонимания смертного, которое раньше физической смерти уводит человека из мира живых.
На этом фоне нельзя не восхититься финалом самого Г. Иванова. Десятки раз пограничной ситуацией ожидания смерти (Толстой, Андреев, Кафка, Камю, Сартр) доказано: психика обреченного, знающего срок смерти, деформируется. Своим мифом саморазрушения Г. Иванов почти убедил в обратном: развоплощается плоть, развоплощается мир, утрачивая одно из своих человеческих воплощений; поэзия развоплощению неподвластна. Она и осталась единственной воплощенной реальностью в трагической поэме под названием «Смерть Георгия Иванова»…
Поэтика другого Иванова (1940—1950-х годов) воспроизводит сужение ассоциативных пространств и пластов внешнего мира. Появляется предельная сосредоточенность на экзистенциальной ситуации. Главный конструктивный элемент поэзии последних лет – поэтика второстепенного слова (экзистенциального, неноминативного, непредметного) – непосредственно строит интонационный сюжет «Портрета без сходства», «Дневника», «Посмертного дневника».
Поэтика второстепенных частей речи у Г. Иванова – это слово поэтическое плюс экзистенциальное, что и дает неповторимый эффект двойной концентрации, двойного потенцирования эмоции. Удивительно то, что энергию сверхконтекстного экзистенциального слова приобретают второстепенные части речи: частица, союз, междометие; самое предметное в этом ряду – местоимение. Деноминативность экзистенциального слова углубляется за счет того, что второстепенные части речи изначально освобождены от предметности и номинативности. Но эти их качества Иванову позволяют выразить невыразимое чувство через его интонационный образ. Так Г. Иванов решает задачу всех экзистенциалистов – уйти от слова: «Мысль изреченная есть ложь». Свободная второстепенная часть речи – самый гибкий материал для воплощения глубинной правды чувства в его интонационном аналоге.
Главным способом реализации интонационного сюжета в поздних стихах остается анафора. В «Розах» ударным элементом анафоры был доминирующий мотив (счастье, розы, звезды) или семантически значимый период (Так черные ангелы… Так черной тенью… Так сердце…). В «Дневнике» несущей конструкцией анафоры оказываются второстепенные части речи: И все-таки тени качнулись… И все-таки струны рванулись…; Если бы жить… Хоть на литейном… Хоть углекопом… Хоть бурлаком… И тем жесточе последняя черта после обреченных хоть. «Все это сны»; Может быть, я умру в Ницце по-особому конечно замкнется финальной анафорой: То, что было и прошло, от Если б не бессонная тоска… – до Если бы забыть, что я иду / К смерти…
Не менее продуктивны в поэтике второстепенного слова Г. Иванова вариации частицы не. Трудно было бы представить, какова контекстная палитра весьма нединамичного, нейтрального слова, если бы не ивановское стихотворение А, может быть, еще и не конец? где вариации не неимоверной силой последней обреченности наполнят финальную строку: Я даже не могу с кровати встать.
В ивановской поэтике возможен даже вариант развития мотива посредством приставки. В стихотворении «Воскресенье. Удушья прилив и отлив…» мотив предпоследнего моего часа реализуется в ряде глаголов добавочного действия: досказать, объяснить, уточнить, разъяснить, доказать, поговорить, поблагодарить. Причем здесь скрыт тот эффект синонимизации не являющихся синонимами слов, который мы наблюдали у Кафки, Белого, Бунина. Мотив смертного примирения создается глаголами возможно-невозможного действия, которое возводило неуловимые пространства кафкианского «Созерцания» и «Норы», бунинских «Темных аллей».
Поистине волшебства кафкианского владения словом Г. Иванов достигает в бесчисленных вариациях сослагательного наклонения. Именно эта форма ставит последнюю точку в сюжете умирания, материализует сюжет предельного отчаяния, который на годы был задан первыми стихотворениями «Дневника»:
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся – и где эти годы!
… Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.
Двигаясь «в отчаянье, в последний приют…», поэт сознательно слагает свой миф саморазрушения: «Отчаянье я превратил в игру…». Пространство отчаяния все создано и держится единственно на несущих конструкциях сослагательной формы. Если бы жить… Только бы жить…; Чем бы бессмертье купить…; Я хотел бы так немного…; Я бы зажил, зажил заново…; Хоть поскучать бы…; Если бы я мог забыться…; Скушал бы клубничного варенья…; С вами посидеть бы… Кстати, где посидеть бы с Пушкиным – там или век назад здесь? Это и есть бездонность экзистенциального слова. Ах, если б, если б… да кабы…; О, если бы с размаха…; О, если бы посметь…; Если б поверить, что жизнь это сон…; Теперь бы чуточку беспечности…; Если б время остановить…; Если бы забыть, что я иду / к смерти семимильными шагами.
Пространство отчаяния в смертных стихах Г. Иванова расшифровывает истинный смысл строк, которые писал человек как таковой: Допустим, как поэт я не умру, / Зато как человек я умираю. С другой стороны, сюжет отчаяния смертных стихов Г. Иванова наиболее точно воспроизводит психологический и интонационный сюжет «Смерти Ивана Ильича». Это не реминисценция, не подражание, не традиция. Предвидения гениального Толстого проверены экспериментом собственного предметного и посмертного дневника, разработкой экзистенциальной ситуации собственной смерти, сюжетом пограничной ситуации своей болезни и гибели, который воплотил, развоплощаясь Г. Иванов.
Так Георгий Иванов прошел свой путь в литературе и жизни – от поэта к человеку как таковому; рассказав о нем все, он стал большим поэтом. Г. Иванов довоплощает путь экзистенциальной традиции в русской литературе, соединив в своем сознании и поэзии многие силовые линии экзистенциального мироощущения и русской, и европейской литературы. Поэт, став точкой, в которой они слились, и сделал открытия, которые оказались за пределами возможностей и русского, и европейского экзистенциализма. Он договаривает невысказанное русским экзистенциальным сознанием первой трети XX века, воспринимая опыт Тютчева и Толстого.