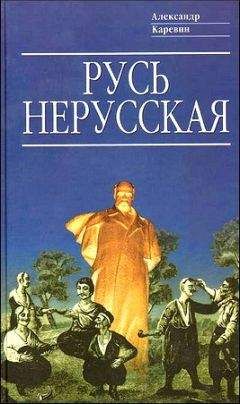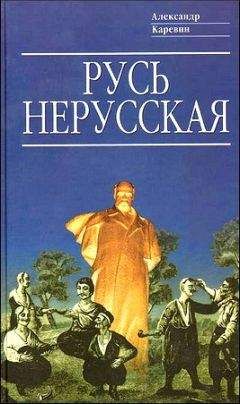Илья Виницкий - Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура
Я очень не хочу показаться занудным, но здесь мне нужно сделать небольшое отступление о литературной генеалогии (чуть не написал «генИалогии»!) Дмитрия Ивановича (о его личной родословной мы поговорим потом). Особое значение для поэтического формирования Хвостова имел кружок братьев Кариных, его родственников по матери. Братья принадлежали, как пишет историк русской словесности, «к первой по времени категории светских юношей, принявших участие в литературном движении, которое заявило себя почти одновременно около эпохи восшествия на престол Екатерины II» [РС: I, 74]. Старший из братьев А.Г. Карин, принимавший активное участие в екатерининском перевороте, был литератором, автором драм и од. Рано умер, оставив Хвостову в наследство свою богатую библиотеку, которую тот хранил как святыню до конца дней. Идеологом кружка был Федор Григорьевич Карин (ок. 1740–1800) – драматург, прозаик и талантливый лингвист, автор замечательного трактата о «преобразителях российского языка», написанного в ответ на послание самолюбивого стихотворца Николева (мне очень нравится, коллега, часть Вашей недавней книги, посвященная жизни и творчеству этого поэта, особенно главы пятая, шестая, десятая и двенадцатая [Альтшуллер 2014]) «на случай преставления Александра Петровича Сумарокова» (отд. изд.: М., 1778).
Смерть Сумарокова 1 октября 1777 года была воспринята участниками каринского кружка как символическое событие: они считали себя его наследниками, несмотря на некоторые, порою существенные разногласия с покойным. В своем трактате, представлявшем, по словам историка, «один из первых опытов нашей литературной критики», Карин назвал главными «преобразителями» русского языка Феофана Прокоповича, Михайлу Ломоносова и Александра Сумарокова. Заслугам последнего в трактате уделялось особое внимание: создатель русской трагедии и театра, автор притч, элегий и эклог, «которых Франция не имеет еще и поныне». Сумароков, писал Карин, «проник до самого источника красоты стихотворства и простой речи и тем преобразил его и дал ему новую силу» [Саитов: 18][32]. Первое достоинство всякого сочинения, по Карину, – это ясность. Высокий слог, утверждал он, не всегда хорош, ибо «мысль может из пышных слов состоять малая, и под самыми простыми выражениями заключаться великая» [там же: 16]. Предвосхищая карамзинскую реформу литературного языка, Карин требовал от авторов «избегать не только темноты, происходящей от несвойственного сложения речи, но и всего того, что от времени, или от измены в разговоре или от чего другого делается непонятным» [там же]. Он писал:
Как искусный садовник молодым прививком обновляет старое дерево, очищая засохлыя на нем лозы и терния, при корне его растущия, так приведенныя мною здесь великия писатели поступили в преображении нашего языка, который сам по себе был беден, а подделанный к славянскому сделался уже безобразен [оттуда же: 17].
Эстетическая программа и критический пафос Карина (господи, какими безобразными словами я сейчас заговорил!) были хорошо усвоены молодым Хвостовым. У нас есть основания полагать (терпеть не могу этого сорнякового выражения!), что Дмитрий Иванович считал себя прямым продолжателем своего дяди-критика (он был, кстати сказать, хранителем его архива). В трактате о «преобразителях» Карин сетовал, что в русской словесности пока нет Горациев и Буало (то есть критиков-арбитров). Именно на эту роль и претендовал Хвостов с 1790-х годов. В 1791 году он был избран, по представлению княгини Дашковой, членом Российской академии наук, «по известному его знанию отечественного языка, как сочинениями, так и переводами доказанному» [ИАР: 18]. В написанном в том же году стихотворении, озаглавленном «Стихотворение», Хвостов воспевает августейшую основательницу собора российских муз, к которому он теперь принадлежит:
Законодавец Героиня,
Простря на всю Россию взор,
Рекла полночных стран Богиня:
Хочу, чтоб жил здесь муз собор;
Сама к тому подам примеры;
Хочу, чтоб были здесь Гомеры;
Пускай в струях Российских рек
Польются Ипокренски воды;
Пусть зрят потомственные роды,
Россия какова в мой век [Хвостов 1801: 53].
Хвостов ревностно относился к своим академическим обязанностям. До нас дошли сведения, что к концу царствования Екатерины его кандидатуру даже рассматривали на пост руководителя академии. Так, желчный граф Ростопчин сообщал князю Воронцову весной 1796 года, что директорское место в Академии «хотят отдать Хвостову – плохому поэту, человеку грязному и нелепому» (заметим, что эту репутацию в глазах недоброжелателей Дмитрий Иванович снискал еще при Екатерине!), но находящемуся под покровительством своего дяди, фельдмаршала Суворова, «который принимает в нем необыкновенное участие» [Ростопчин: 403].
При распределении академических работ Хвостову достался план составления российской пиитики или «правил российского стихотворства» [Сухомлинов: 173]. В 1790–1800-е годы он работал над программными переводами французских классиков – Расина и Буало[33]. Хвостов также печатает стихотворные и прозаические трактаты и письма о разуме, басне, опере, критике, любви и т. п.
До конца жизни Дмитрий Иванович полагал чистоту языка и слога главною «принадлежностию поэта», а себя – опытным, уравновешенным и честным учителем начинающих стихотворцев: «Коль речь твоя ясна, коль чувством дух твой полн, / Дерзай средь грозных бурь, не будешь жертвой волн» (1-е послание о критике [III, 138]). Противник «нововводителей» (сентименталистов и, позднее, романтиков), он, в отличие от своего соратника по «Беседе» адмирала Шишкова, никогда не был убежденным «славенофилом». Более того, в начале 1800-х годов он выработал компромиссную программу («я везде беру серединку» [Нешумова 2013: 205]), в которой постарался примирить крайности шишковизма и карамзинизма и пройти меж Сциллой строгого разума и Харибдой бесконтрольной чувствительности (извольте заглянуть в его осторожное «Письмо о красоте российского языка», помещенное в пятой книжке «Друга Просвещения» за 1804 год: «Не диво, что у нас стихов негодных тьма, / В которых смысла нет, ни вкуса, ни ума. / Тот хочет быть высок, другой быть хочет сладок, / Совсем не ведая, что слог и что порядок» [Морозов: LXXV, 75]. Хвостов ведал).
Назад, назад к эпитафии, переведенной Хвостовым! В центре сентиментальной этики, столь напугавшей Дмитрия Ивановича на заре его поэтической деятельности («ужасное преступление»), находилась тема несчастной любви и связанный с ней вопрос о праве горемычного лишить себя жизни. История о двойном самоубийстве, лежащая в основе эпитафии, переведенной Хвостовым, поразила в свое время воображение современников. Это происшествие подробно описано Николаем Михайловичем Карамзиным в «Письмах русского путешественника» (1789):
Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот щастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их щастия… [Карамзин: 294]
Узнав о том, что они не могут жениться, молодые люди решили покончить с собой одновременно:
[они] встретились за городом, в каштановой роще, приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга – поцеловались – и сей огненный поцелуй был знáком смерти – выстрел раздался – они упали, обнимая друг друга… [там же: 295]
Чувствительный путешественник осуждает это самоубийство:
Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Естьли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или естьли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства нещастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны – чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается… [там же]
(Восторженный почитатель Карамзина Василий Андреевич Жуковский, тоже несчастный влюбленный, воспринял выделенные мною слова как завет, которому он следовал в отношениях со своей юной племянницей Марией Андреевной Протасовой, впоследствии – Мойер[34].)
К концу XVIII века имена Терезы и Фальдони стали нарицательными. В 1783 году был опубликован сентиментальный роман Н. – Ж. Леонара «Lettres de deux amans habitans de Lyon» (русский перевод М.Т. Каченовского выходил дважды – в 1804 и 1816 годах). В 1834 году в «Литературной газете» был напечатан рассказ М. Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони», «добродетельные герои которого уподоблялись героям Леонара». Эти имена несколько раз упоминаются в первом романе Достоевского «Бедные люди». Самуил Лурье остроумно заметил, что карамзинская интерпретация лионского самоубийства является «потайным эпиграфом» к роману [Лурье: 202].