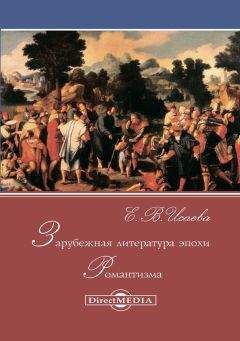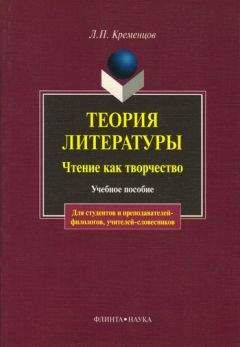Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика
В заключение раздела еще одно наблюдение. При чтении русских переводов работ Фосслера разного времени, невольно кажется, что они принадлежат разным авторам. Переводы советского времени[36] сухи и наукообразны (первый принадлежит известному германисту Б. А. Ильишу, тогда совсем молодому, второй, скорее всего – самому профессору В. А. Звегинцеву). А переводы в «Логосе» (переводчик не указан) звучат совсем иначе – эмоционально и высокопарно; читая их, ощущаешь, что автор – философ, а не профессор лингвистики. И стиль этих переводов нередко напоминает стиль МФЯ с «колыбелями», «свирелями» и др. Не хочу сказать, что Бахтин или Волошинов переводили Фосслера в «Логосе»: это исключено уже потому, что им во время публикации первого из переводов было по 15 лет. Так писали и другие авторы журнала. Это был общий стиль эпохи, под который «причесали» и немецкого ученого.
В связи с этим отмечу, что общая маргинальность МФЯ для советской науки тех лет проявлялась не только в идеях, но и в стиле книги. Книга могла казаться несовременной даже не столько по содержанию, сколько по форме. «Филологическая свирель, пробуждавшая мертвых» и подобные выражения книги должны были казаться слишком «возвышенными» и «пролетарскому» читателю, и профессиональному лингвисту. Это стиль «Логоса» и вообще философии Серебряного века, тогда как языковеды и в предреволюционные годы писали менее эмоционально. Изменить язык и стиль бывает труднее, чем мировоззрение.
Вот один пример на ту же тему. В последней части МФЯ сказано, что у фосслерианцев «иногда язык прямо превращается в игралище индивидуального вкуса» (342). Спустя три года появилась полемическая брошюра против марризма.[37] Стремясь доказать тезис о том, что «у каждого класса свой язык» (свойственный тогда не только Н. Я. Марру, но и его противникам), ее автор сопоставляет словарь В. И. Ленина («сапоги всмятку», «похабный мир», «сволочь идеалистическая» и т. д.) и «буржуазный» словарь П. Н. Милюкова. И в примеры последнего наряду со «стяжанием» и «властеборством» попадает как раз «игралище».[38] Совпадение, конечно, случайное. Однако «игралище» для СССР начала 30-х гг. выглядело как «чужое слово». Во избежание недоразумений скажу, что автор брошюры П. С. Кузнецов (впоследствии один из моих учителей в МГУ) был очень серьезным ученым. У него не было ни желания выслужиться, ни «карнавальной» иронии, просто он бессознательно стремился быть «в ногу» со своим временем. А авторам МФЯ при их симпатиях к марксизму (см. четвертую главу) это не удавалось.
Впрочем, если язык Московской и Ленинградской лингвистических школ был совсем непохож на язык и стиль МФЯ, то как раз Н. Я. Марр и подражавшие ему ученики вроде молодого В. И. Аба-ева были в этом отношении ближе к МФЯ. Может быть, это одна из причин версии о «марризме» МФЯ, о которой речь пойдет ниже.
1.1.4. Философия, философия языка и лингвистика
Помимо анализа идей лингвистов в МФЯ говорится и об идеях философов, как-то касавшихся проблем языка (впрочем, конечно, грань между лингвистами и философами нередко достаточно условна – куда, например, отнести Гумбольдта?). Не будучи по специальности историком философии, я не могу рассмотреть сколько-нибудь детально проблему философских истоков концепции МФЯ; как я уже отмечал, эта проблема сейчас изучается. Особенно надо отметить английского исследователя К. Брандиста.[39] Кое-что, однако, отметить нужно. Например, бросается в глаза, что за исключением упоминавшегося выше Б. Кроче эти философы – только немецкие ученые.
В конце жизни Бахтин рассказывал В. Д. Дувакину, что он с раннего детства говорил по-немецки и немецкий был для него почти первым языком, что И. Канта в оригинале он читал еще в детстве.[40] Конечно, не все такие рассказы надо восприни-мать как абсолютно достоверные. Они могли быть таким же мифотворчеством, как рассказы тому же Дувакину о потомственном дворянстве или окончании классического отделения Петроградского университета. Но что-то они отражают. Безусловно, и Бахтин, и Волошинов росли в атмосфере немецкой философской культуры. Ориентация на эту культуру очень заметна во всех текстах круга Бахтина 20-х гг. Разумеется, это не значит, что авторы МФЯ не знали других языков (по крайней мере, французского): они, например, разбирают в оригинале Ф. де Соссюра, тогда еще не переведенного ни на русский, ни на немецкий язык. Но из франкоязычных авторов сколько-нибудь детально разбираются только Соссюр и Ш. Балли. А. Сеше, А. Мейе и Э. Дюркгейм упомянуты вскользь, Б. Кроче – в двух коротких абзацах. И всё! А немецких фамилий (включая австрийские) больше двух десятков. И как раз в эпоху, когда и лингвистика, и философия уже перестали быть «немецкими науками», какими они были весь XIX век.
Безусловно, немецкая наука (особенно выходящая за рамки позитивизма) близка авторам МФЯ, в ее анализе они как бы дома. Вовсе не обязательно они согласны с разбираемыми авторами; наоборот, нередко они их критикуют. Но Э. Кассирер, В. Дильтей, Г. Коген, Г. Риккерт, Ф. Брентано, Г. Зиммель и другие немецкие философы, упомянутые в книге, – представители привычной культурной среды, мысленный диалог с ними круг Бахтина вел уже давно. В этот ряд естественно входили и К. Фосслер с Л. Шпитцером, пуста, они занимались не только лингвофилософскими, но и конкретно-лингвистическими проблемами.
Вот характерный пример лучшей ориентации авторов МФЯ в философской, чем в лингвистической литературе. В самом начале второй части книги говорится: «Специальных работ по истории философии языка до сих пор нет», а «единственным пока солидным очерком истории философии языка и лингвистики» назван раздел в книге философа Э. Кассирера (259). В рецензии на МФЯ Р. О. Шор, профессиональный историк лингвистики, без труда показала, что это не так и на западных языках есть несколько книг такого рода, написанных не философами, а лингвистами, где информации содержится больше, чем у Кассирера.[41] Сразу отмечу и то, о чем подробнее будет сказано в третьем экскурсе: формы вежливости японского языка отразились в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» благодаря тому, что о них упоминалось в книге Э. Кассирера. Этот ученый (среди видных философов-неокантианцев более других касавшийся вопросов языка и во многом следовавший идеям Гумбольдта) вообще был для Бахтина особо значим; см. об этом специальную публикацию,[42] а также;[43] мы вернемся к этому вопросу в третьей главе. В недавнее время на Западе даже был поднят вопрос о «Бахтине-плагиаторе», поскольку в книге о Рабле обнаружились идеи, совпадающие с Кассирером.[44] А недавно Г. Амелин вообще заявил о «глубочайшей неоригинальности» Бахтина, якобы все свои идеи (включая идеи, содержащиеся в публикациях круга Бахтина) заимствовавшего у Г. Зиммеля и других немецких авторов.[45] Такая точка зрения, разумеется, является крайней.
Таким вниманием к немецкой немарксистской философии (о марксизме мы будем специально говорить в четвертой главе) книга резко отличалась от большинства современных ей работ в СССР, не только лингвистических, но и философских (хотя влияние Э. Кас-сирера наблюдалось даже у Н. Я. Марра, что тот признавал). Помимо общего процесса вытеснения из обихода немарксистской философии, не требующего особых обьяснений, надо учитывать еще два обстоятельства.
Во-первых, в 1928–1929 гг. немарксистская философия, причем касавшаяся и проблем языка, в СССР еще существовала: работали и публиковались Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев (последний, кстати, работы по теории языка печатал даже в 50—60-е гг.), оба упомянуты в МФЯ. Но упоминание обоих там либо безоценочно, либо отрицательно. О книге[46] сказано: «Дана основательная критика концепции Вундта, но собственное построение Г. Шпета совершенно неприемлемо» (262); оценка его же книги о Гумбольдте приведена выше. Оба ученых явно не близки авторам МФЯ. А других философов языка тогда у нас не было, исключая марксистов, о которых речь пойдет в четвертой главе.
Во-вторых, в советской лингвистике независимо от общественной ситуации и даже отчасти вопреки ей (марризм требовал иного) в те годы распространялись структурные методы (пусть тогда они так не именовались). А большинству структуралистов была свойственна нелюбовь к «философствованию» (исключая отдельные ветви структурализма вроде глоссематики, связанной с неопозитивизмом). В советской науке о языке тех лет, если отвлечься от попыток построения марксистской лингвистики, о которых будет сказано ниже, не играли сколько-нибудь существенной роли обращения к философским теориям. В этом не было ничего нового: структуралисты следовали заветам позитивизма.
Но следует разобраться еще в одной проблеме, которую несколь-ко лет назад поднял Н. Л. Васильев, один из наиболее серьезных и трезвомыслящих исследователей круга Бахтина в нашей стране. В комментариях к МФЯ в «Тетралогии» он пишет, что проблематика этой книги не относится к лингвистике, поскольку философия языка—особая наука, основанная на «классическом и новом кантианстве».[47] И далее: «Предметом внимания авторов МФЯ является не столько язык, сколько языковая природа человеческого общения – ее коммуникативный, социологический, психологический, эстетический и иные аспекты».[48]