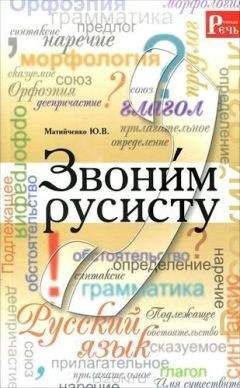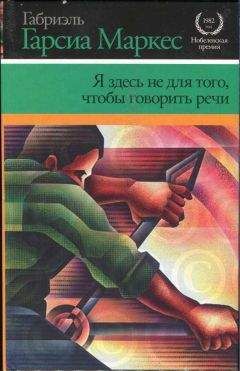Г. Коган - Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования
Когда он лег спать, я села писать письмо к маме, опять прося у нее денег; хотела я отнести письмо сегодня на почту, но не могла этого сделать, потому что боялась, что придет наш закладчик и не застанет меня дома, а Федя будет спать. Так он проспал от 6 до 9 часов, когда, наконец, я его разбудила. После чаю я тоже легла заснуть и спала часа 2. Федя все время ходил по комнате, и когда я, наконец, проснулась, то он начал меня бранить, зачем я его оставила, зачем не говорю, объявил, что я и сплю-то просто от злости. Все это было ужасно несправедливо: легла спать я вовсе не от злости, а потому что была нездорова, а говорить с ним боялась, потому что все ему не нравилось и на все он сердился. Но под конец мы все-таки с ним примирились <…>
Четверг 10 <октября>/28 <сентября>. Сегодня я проснулась, взглянула на часы и увидела, что мы проспали сегодня до половины 11-го, чего с нами почти никогда не случалось. Я поспешила разбудить Федю, потому что мы ждали закладчика, потом пошли сказать старухам, чтобы они сделали кофей. Когда я пришла к ним, то они мне сказали, что приходил за товаром какой-то господин уж 2 раза, и обещал прийти в 3-й в 11 часов и спрашивала, к нам ли это. Я отвечала, что когда придет, чтобы привели его к нам. Мы сейчас оделись и к 11 часам были готовы. Федя все тревожился и представлял, как это нам стыдно, что вот придет к нам закладчик, что все об этом узнают, о, какой стыд, что мы афишированы и что теперь весь город будет знать, что мы закладываем наши вещи. Вообще говорил мне, что я думаю больше, чтобы его сердить и тревожить, мучить, зачем я пригласила его прийти. Наконец пришел этот господин, осмотрел наши вещи, 2 мои платья и мою черную кружевную мантилью, и сказал, что, если угодно, то он даст 50 франков, по больше дать не может: что здесь все ужасно дешево дают и что нам же будет легче меньше заплатить, чтобы получить эту вещь назад. Это все они говорят, не понимая одного, что когда получим деньги, тогда все равно будет, больше дать или меньше. Но за такую малую сумму мы отдать не могли, а потому сказали, что поищем другого. Он обещал прислать другого какого-то господина Dupuis, но так как нам не хотелось, чтобы наши хозяйки знали, то мы просили не присылать, а просто сказать адрес; он нам и сказал. Когда он ушел, Федя начал говорить, что мы осрамились, что теперь все знают, что мы закладываем, что нас уважать не станут, так что даже сделалось ужасно больно и обидно. Ведь он же сам довел до того, что пришлось закладывать мои же платья. Зачем было доводить до такой бедности, а тут при этом горе он начинает еще тревожить меня. Когда закладчик ушел, я сходила на почту и узнала, что из Саксон пришли 2 вещи, т. е. Федино пальто и кольцо, но отдать они мне не могли, а просили, чтобы пришел сам Федя. Я воротилась домой и сказала Феде. Тут у нас как-то зашел разговор, и когда он меня начал опять упрекать, зачем я позвала этого закладчика, и говорил, что мне, вероятно, приятно ходить закладывать, что, вероятно, мне не стыдно, то я отвечала, что мне даже потому неприятно, что это мне случилось в первый раз, что прежде мне никогда так не случалось делать, а, следовательно, о приятности не может быть и речи. Тогда он мне сказал, что нам между собой нечего гордиться состоянием, что и я ничего не имела. Мне это было до такой степени обидно слышать, что я чуть было не расплакалась. Это уж было ужасно обидно. Ведь я говорю это не для упреков его, а он сейчас принял это за упреки и решил непременно и меня упрекать. Да даже если бы и я была так недобросовестна, что позволила бы себе его упрекать, то неужели же у него нет настолько деликатности и любви ко мне, чтобы мне так не сказать.
Из дому я пошла к Dupuis, про которого говорил мне закладчик, видела его жену и его, они удивились моей мантилье, сказали, что если бы купить, то они, пожалуй, купили, но под залог денег не дают. Были очень вежливы и указали мне магазин Lion, где продают различные вещи, говоря, что там непременно примут. От него я отправилась в сказанный магазин и дождалась, покуда оттуда выйдут 2 покупавшие там что-то госпожи. Я вошла и показала мантилью. Сначала они спросили, сколько я хочу за нее, а потом отказались взять, сказав, что этим не занимаются, но дали мне адрес Clere на rue des Allemands, который будто бы этим занимается и берет такие вещи. От него я отправилась домой, и мы пошли с Федей обедать, а после обеда, несмотря на дождь, я пошла отыскивать Clere. Это какой-то старичок, который сначала объявил мне, что у него все уже заперто и чтобы я пришла завтра, потом, когда узнал, что у меня шелковое платье, а не золотые вещи, дал мне адрес какого-то купца Crimisel, который торгует платьями и который, по его словам, берет заклады. Я к нему и отправилась <…> его не было дома; жена посмотрела мантилью, сказала, что она не особенно понимает в кружевах и что это, должно быть, и не настоящие, но что она верит мне на слово. Я с нею разговорилась, и она предложила мне принести сегодня или завтра платья к ней, когда будет ее муж. Тут пришел и он, посмотрел на мантилью и сказал, что пусть я принесу завтра платье, тогда он примет и мантилью в тот счет <…>
Пришла домой, сказала Феде, что вот каким образом это устраивается. Был дождик, и Федя тоже воротился из читальни. Я просила нашу хозяйку сделать нам кофей, который сделала она <превосходно>. Потом вечер прошел довольно весело. Я легла спать в 11 часов. Федя еще тоже лежал на своей постели, я еще не спала, как вдруг в 25 минут 12-го вечера я в первый раз почувствовала, что ребенок у меня забился, т. е. я почувствовала какие-то острые толчки в живот в разных местах, не постоянно, а через несколько времени. Я не сказала Феде, думая, что это я сама обманулась и что, может быть, это у меня просто-напросто расстройство желудка. Потом, когда он меня разбудил в 2 часа, и я все еще продолжала чувствовать это биение, я сказала Феде, он пощупал, но ощупать этого не мог. Как я была рада и счастлива, этого и сказать нельзя. Вот, наконец-то, бьется, наконец живет мой ребенок! Теперь уже не кусок мяса, а, может быть, сын, он тесно связан со мной, милый сын, которого я еще не знаю, но которого ужасно как люблю. Я нынче постоянно мечтаю о Мише или Соне. Мне все кажется, то они маленькие, то подросли немного, то, наконец, большие, и я так рада представить их, я так люблю их, что бог только один знает. Федя несколько раз меня целовал, и мы довольно долго с ним об этом поговорили. Потом, когда он лег в постель, то в темноте мы долго разговаривали. Я говорила, что желала бы, чтобы Соня или Миша походили совершенно на него, а он, напротив, говорил, что желал, чтобы Соня была такая, как я. А чтобы от меня, говорил он, она наследовала быстроту бега. (Оказалось потом, что Федя решительно не умеет бегать.) Потом заговорили о ловкости <…> Мы очень долго хохотали, но я до того проснулась, что заснуть уж потом не могла и не могла спать всю ночь.
Пятница 11 <октября>/29 <сентября>. Мы вчера так много хохотали, что я окончательно проснулась и заснуть уж не могла ни крошки, так что, может быть, и могла бы заснуть часов в 7, но так как мне следовало идти в 9 часов заложить платье и я боялась, что он уйдет, то я и решилась лучше не спать, чтобы опять не проспать так долго. В 3/4 9-го я разбудила Федю, чтобы он встал и пил кофей, и в 1/4 10-го уже вышла из дому, связав два мои платья, зеленое и лиловое с полосками, в один узелок, под видом посылки. Сегодня был опять la bise, т. е. северный ветер, так что меня просто сшибало с ног. Я кое-как дошла до купца. Они осмотрели мои платья и хотели дать мне за 2 платья и мантилью 60 франков, но я сказала, что это мне мало. Тогда они сказали, что вот если бы у вас было бы еще платье, я отвечала, что готова вместо мантильи принести еще платье, которое будет такое же хорошее, как и первое. Тогда они мне решили дать по 25 франков за 2 платья, следовательно, 50 и за 3-е — 30, всего 80 на два месяца, но сделали такое условие, что если через 2 месяца не выкуплю, то платья они продают. Но пока я еще не принесла платье, они заставили меня записать эти 2, я получила 50 франков и отправилась домой, зайдя в магазин купить чаю. <…> Пришла домой, принесла деньги, но сейчас не пошла опять с платьем, потому что было уж слишком холодно. Пошли обедать, а после обеда я зашла домой и, взяв платье, отправилась опять к закладчику. Его не было дома, но жена была, она уже хотела мне дать деньги и заставить меня расписаться; конечно, я была так глупа, что разговорилась с нею, расспрашиваю ее о платье, и таким образом дождалась-таки, что пришел муж. Она, вероятно бы, дала мне 30 франков. Но он был <скупее?>, чем она и, посмотрев платье, объявил, что оно изношено и что он может дать только всего 20 франков, тогда как я надеялась получить 30. Он долго рассматривал и продолжал уверять, что оно старое и что им будет убыток, когда придется им продать. Наконец, после долгих разговоров, дал мне 25 франков. Тут я могла себя бранить <одну?>, потому что решительно была одна виновата в том, что не дал больше. В большой грусти пошла я домой, купив по дороге бумаги для заштопывания наших чулок, которые очень разорвались. Но я так долго ходила, что уже стемнело и Федя начал беспокоиться, не видя меня так долго. Вечером, когда Федя меня разбудил, я ему говорила что-то про сны и потом сказала по-французски: mais c’est tres singulier[481]. К чему это относилось я, право, не знаю, вообще я нынче больше разговариваю по-французски, чем по-русски, ночью. Ребенок продолжал биться целый день, но я все еще боялась этому поверить, думала, что это происходит при раздражении желудка. Федя был сегодня очень весел и мы все сочиняли "Абракадабра":