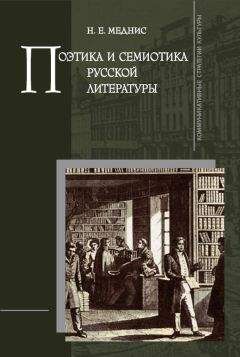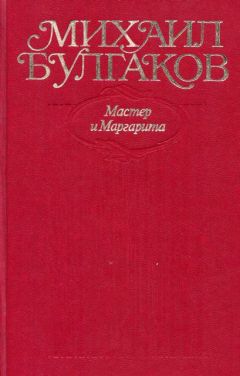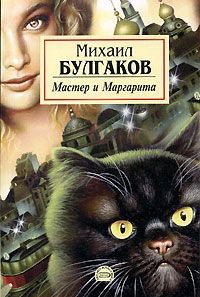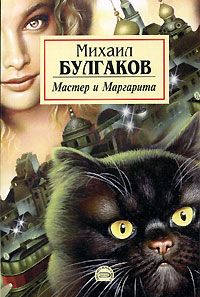Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
В эпизоде беседы Пилата с Марком Крысобоем, разобранном нами выше, Булгаков очень осторожно обозначил некую гипотетическую возможность переворота в сознании «честного» палача, просто добросовестно исполняющего свои «служебные обязанности». Кажется очень важным, что источником нового опыта и нового знания о самом себе и о своем повелителе, стал для Марка Крысобоя именно прокуратор Понтий Пилат. Ему Марк подчиняется беспрекословно, служит ему преданно и истово, как пес Банга, ибо человеческое достоинство в системе координат античной культуры обусловлено именно таким поведением по отношению к тому, кому обязан жизнью. Слово Пилата, мнение Пилата изначально – и с человеческой и со служебной точки зрения – авторитетны для Марка, именно потому, что
Пилат – воплощенная власть. Поэтому Пилат – это единственный человек в мире, через которого могла прийти и к «черствому» изуродованному Крысобою благая весть, что человек добр.
Таким образом, весьма возможно, что в этом эпизоде мы имеем дело с микромоделью идеального государственного устройства, о котором как об утопии тосковал Михаил Булгаков. Это монархия, основанная на христианском понимании природы человека, где от самого властителя исходит к его подданным новое христианское отношение к человеку.
Диктаторская власть Воланда этой утопии никак не соответствует. Поэтому, если наша гипотеза верна и за маской дьявола скрыт диктатор, власть которого строилась на беспрецедентном по масштабам государственном терроре, то «Антихристова печать» («Антихристова печать тут – клеймо связи с государством, с тюремщиками, с насилием»[128]) ни в коем случае не ложится на Булгакова, а клеймом проступает на его персонажах из преисподней. И тогда целостное понимание замысла булгаковского романа, которое сформулировано К. Икрамовым так: «Понятно, что „Мастер и Маргарита“ – мечта слабого человека о справедливости, даже о справедливости любой ценой»[129], - обидно и несправедливо по отношению к Михаилу Булгакову.
Повторим еще раз: статья Икрамова – публицистическое произведение. Это его реакция на легкомысленное прочтение булгаковского романа современниками, которым показалось, что Зло может творить Добро и восстанавливать справедливость. Каждый, кто так читал роман Булгакова, не осознал, что эта соблазнительная идея – лишь собственная версия дьявола о себе самом, его способ самоутверждения и самооправдания. Икрамов был в числе совсем немногих, кого Воланд и его глумливая шайка обморочить не смогли, именно потому, что он – самостоятельно мыслящий и внутренне свободный человек, прошедший сквозь ад застенка и не сломленный им. Этический релятивизм, нежелание различать добро и зло, отказ от стыда, любовь к сильным, «союз жертвы с палачом» – прямое следствие сталинщины, нравственная болезнь, поразившая общество. Задача Икрамова состояла в том, чтобы об этом заявить, поэтому он заканчивает свою якобы литературоведческую статью пафосной риторикой:
«Истина вовсе не в том, что у нас у всех после долгого и тяжкого похмелья болит голова. Это не сама истина, а то, что мешает нам приблизиться к ней.
Нет, не утрата моральных критериев, а отсутствие стыда за эту утрату волнует меня теперь».[130]
Мы поместили в качестве эпиграфа к этой главе мнение Варлама Шаламова о романе Булгакова, оно, в принципе, совпадает с мнением Камила Икрамова. Убийственно звучит найденная Шаламовым лаконичная формула: «Эстетизация зла – это восхваление Сталина». Это, конечно же, самое суровое нравственное обвинение, предъявленное Булгакову писателем, вернувшимся с Колымы, прошедшим через ад ГУЛАГа. Обаяние Воланда и его глумливой шайки не может очаровать сурового зэка, он психологически защищен своим лагерным опытом от гипноза «черной магии» власти. Видно, что Шаламов, формулируя свое полупрезрительное отношение к Булгакову, дистанцирует себя от мира «Мастера и Маргариты».
По мнению Шаламова, Ренан[131], то есть позитивизм и атеизм ершалаимских глав, и Штраус[132], то есть скептицизм в отношении исторической достоверности евангельских повествований (а может быть, и внешний блеск музыки вальса Иоганна Штрауса при ее неглубокой содержательности), – вот культурные истоки романа Булгакова, «Булгаков – никакой философ». Такая оценка позволяет Шаламову оставить роман Булгакова вне поля собственного зрения, просто отмахнуться от него, как от чего-то, не имеющего лично к Шаламову никакого отношения. Конечно, у него есть это право. Его трагическая судьба, его лагерный опыт, запечатленный в «Колымских рассказах», – это весомый аргумент, и кажется, что Шаламов и Икрамов прямо говорят от имени всех жертв палачей Сталина.
Может показаться, что этого их страшного суда и их неподкупного прямого взгляда Булгаков – «слабый человек» и «никакой философ» — не выдерживает. Однако крупнейший русский писатель и бывший лагерник – Александр Солженицын – почему-то с Шаламовым категорически не согласен. Он характеризует точку зрения Шаламова на Булгакова как высокомерную и, к великой нашей радости, говорит о полном непонимании Шаламовым Булгакова. Значит, автор «Архипелага ГУЛАГ», восхищавшийся талантом Булгакова, увидел в его творчестве что-то куда более значимое, нежели «Антихристову печать», «слабость» и «восхваление Сталина». Это нас очень обнадеживает.
Личная тайна как предмет литературы (На основе анализа текстов А. Пушкина и М. Лермонтова)
Глава первая
Самосознание формы [133]
Поэма «Домик в Коломне» начинается издалека, и предметом первоначального вольного собеседования с читателем автором ставится вопрос, обычно остающийся за рамками произведения. Как правило, теоретические проблемы, связанные с выбором стихотворной формы, решаются в критической литературе, в «поэтиках» и «эстетиках». А на практике эти проблемы остаются для читателя как бы «за кадром», читателю не обязательно знать, что происходило в поэтической «мастерской», когда создавался текст. Напротив, пушкинская поэма сразу же устраняет существующую жанровую границу между поэзией и литературой о поэзии. Автор сознательно нарушает литературный этикет, вторгаясь в область, чуждую лирике с точки зрения традиционного эстетического сознания читателя.
Поэма написана октавами, и октава становится не только поэтической формой, но и содержанием вступления в поэму. Таким образом, без всякого глубокомысленного теоретизирования, но наглядно практически художественное содержание эмансипируется Пушкиным от внешней формы. Строфика, размер, рифмы – все внешние атрибуты поэтической речи оказываются нейтральны по отношению к самой сущности поэзии. Это явлено во вступлении открыто и недвусмысленно.
Русская поэзия октаву начала осваивать еще с поэтических экспериментов Батюшкова, стремившегося в русском стихе создать некий эквивалент звучания тонической системы итальянского стихосложения. Проблема октавы во времена Пушкина занимала и любомудра Шевырева, в общем, можно считать, что октава осознавалась как сложная поэтическая форма, требующая от поэта большой искушенности и виртуозности в области стихосложения, умения свободно владеть всеми поэтическими средствами языка.
Понимание поэзии как «сладкозвучия» – вот то представление, по отношению к которому объявляется Пушкиным полемика.
В «Домике в Коломне» – поэме-эксперименте – Пушкин решал для себя задачу обнаружения самой сущности поэзии, той внутренней формы, той глубинной организации, которая всегда присуща любому поэтическому произведению. Поэзия в новой поэме сама должна была стать действующим лицом, выявить свои границы, осознать саму себя и свои возможности. Забегая вперед, следует сказать, что одним из центральных смысловых аспектов «Домика в Коломне» является то, что можно назвать «практической эстетикой». Иначе говоря, новая эстетическая концепция не излагается постулативно-теоретически, но законы поэзии сделаны в поэме действующими силами, организующими саму коллизию поэмы и сам ее поэтический сюжет.
Еще это можно сформулировать так: все в поэме происходит так и именно так потому, что «Домик» – это поэма.
Автор начинает с того, что демонстрирует читателю виртуозное свое мастерство стихотворца, с веселой непринужденностью ведя самый деловой разговор – обоснование октавы. И читатель видит, что октава служит Пушкину так же верно и послушно, как когда-то служил четырехстопный ямб, организованный в «онегинскую строфу», которым поэт «болтал» в своем романе в стихах.
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
С первых же строк автор заявляет себя не «мальчиком», но мастером в своей поэтической мастерской, хозяином положения, которому послушен весь строй языка, художником независимым от норм и правил, диктуемых любыми «пиитиками». Создавая свой образ большого мастера, «имеющего власть» и «имеющего право» отменить для себя все принятые до него «нормы» и «правила», Пушкин как бы подсказывает читателю, что поэт владеет тайной самой поэзии, которая не имеет ничего общего с мелочными и внешними требованиями правильных рифм, цезур и т. п.