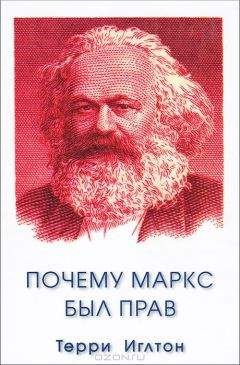Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
То же самое едва ли может быть сказано о марксистской критике, которая, после своего апогея в середине 70-х, впала в некое подобие депрессии[167]. В этом отношении симптоматично, что работы ведущего западного марксистского теоретика Фредрика Джеймисона, несмотря на то что он остаётся твёрдым марксистом, после 80-х всё более сдвигаются в сферу теории кино и постмодернизма[168]. Спад марксизма начался задолго до ключевых событий конца 80-х в Восточной Европе, когда неосталинизм, к облегчению всех демократических социалистов, был окончательно свергнут народными революциями, которые западный постмодернизм самодовольно не считал ни возможными более, ни желанными. Поскольку об этом свержении господствующие течения западного марксизма кричали в течение семидесяти лет, вряд ли причиной упадка марксистской критики на Западе стало резкое разочарование в «реальном социализме» на Востоке. Падение популярности марксистской критики начиная с 70-х годов было следствием процессов, происходивших в так называемо «первом мире», а не во «втором». Частично оно явилось результатом кризиса глобального капитализма, который мы уже вкратце рассмотрели, частично – результатом критики, адресованной марксизму различными «новыми» политическими течениями (феминизм, права сексуальных меньшинств, экология, этнические движения и прочие), которые поднялись вслед за предшествовавшими выступлениями рабочего класса, национальными восстаниями, борьбой за гражданские права и студенческим движением. Большинство из этих предыдущих проектов основывалось на вере в борьбу между массовой политической организацией с одной стороны и репрессивным государством с другой; большинство из них предполагало радикальное преобразование капитализма, расизма или империализма как целого, и поэтому мысль их развивалась в смелых «тотализирующих» терминах. Но примерно к 1980 году такой подход начал выглядеть очевидно устаревшим. Так как государственная власть оказалась слишком устойчивой, чтобы её свергнуть, на повестке дня появилась так называемая микрополитика. Тотализирующие теории и организованная массовая политика всё в большей мере ассоциировались с подавляющим разумом патриархата или Просвещения. И если все теории, как полагали некоторые, в своей основе являются тотализирующими, то новыми теоретическими направлениями должны были стать разновидности антитеории: локальные, дробные, субъективные, эпизодические, автобиографические, а не объективные и всезнающие. Казалось, теория, деконструировавшая абсолютно всё, наконец-то преуспела в деконструировании себя самой. Идея стремящейся к изменениям, самостоятельно определяющей свою судьбу человеческой личности была отвергнута как «гуманистическая», чтобы быть смещённой текучим, подвижным, децентрированным субъектом. Больше не существовало логически последовательной системы единой истории, против которой можно было выступить: только дискретный набор властей, дискурсов, практик, нарративов. Эпоха революции уступила дорогу эпохе постмодернизма, и «революция» стала термином, используемым исключительно в рекламных целях. Родилось новое поколение литературоведов и теоретиков, очарованных сексуальностью, но скучавших от социальных классов, воодушевлённых массовой культурой, но игнорирующих историю рабочего движения, увлекавшихся экзотической инаковостью, но лишь смутно знакомых с воздействием империализма.
Итак, в течение 80-х Мишель Фуко быстро обогнал Карла Маркса в качестве главного политического теоретика, в то время как Фрейд, интерпретированный Жаком Лаканом, всё ещё удерживал свои позиции. Положение Жака Деррида и деконструкции казалось несколько более неоднозначным. Когда эта книга впервые была опубликована, указанное течение переживало пик своей популярности. Сегодня оно порядком вышло из моды, хотя то тут, то там всё ещё проявляется его сильное влияние. Ранние захватывающие и оригинальные работы Деррида («Голос и феномен», «О грамматологии», «Письмо и различие», «Диссеминация») сейчас, как и пионерские исследования ранних теоретиков феминизма, отделены от нас более чем четвертью века. Сам Деррида в 80-х и до-х продолжил писать остроумные произведения, но в них не было ничего, равного по замыслу и глубине ранним плодотворным текстам. Его письмо в целом стало менее программным и обзорным, более разнородным и эклектичным. Усилиями некоторых его англосаксонских последователей деконструкция была сведена к чисто текстуальной форме анализа, способствуя популярности литературного канона, который она предполагала ниспровергнуть через непрерывное блуждание по его содержанию и попутному занятию деконструкцией, – и поставляя, таким образом, новый изощрённый материал для «индустрии критики». Сам Деррида всегда настаивал на политической, исторической, институциональной природе своего метода, но тот, пересаживаемый из Парижа в Йель или Корнелл, оказался таким же неспособным переносить траспортировку, как изысканное французское вино, – и эта дерзко ниспровергавшая стереотипы форма мышления легко ассимилировалась формалистической парадигмой. Вообще, постструктурализм расцветал пышнее всего, смешиваясь с каким-либо другим, более широким, проектом: феминизмом, постколониальными исследованиями, психоанализом. К концу 80-х приверженцы деконструкции выглядели как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и не в последнюю очередь в связи с драматизмом так называемого дела де Мана 1987 года, когда мастодонт американской деконструкции йельский критик Поль де Ман был разоблачён в размещении прогерманских и антисемитских статей в коллаборационистских бельгийских журналах во время Второй мировой войны[169].
Накал страстей, последовавший за этим скандалом, был тесно связан с самой судьбой деконструкции. Сложно не увидеть, что некоторые из самых отважных защитников де Мана того времени, включая самого Деррида, реагировали так бурно потому, что это казалось им не только борьбой за репутацию уважаемого коллеги, но и борьбой за последний шанс всей теории деконструкции. Дело де Мана, как будто движимое невидимой рукой истории, любопытно совпало с утратой этого последнего шанса и с тем, что даже при положительном отношении нельзя воспринять иначе, как панику припёртой к стенке теории. Так или иначе, деконструкцию обвиняли, помимо прочих грехов, в антиисторическом формализме; и на протяжении всех 80-х, в том числе Соединённых Штатах, в теории литературы накапливались изменения, снова толкнувшие её к одному из вариантов историзма. Впрочем, в изменившихся политических обстоятельствах не было места уже определённо дискредитированному историзму Маркса и Гегеля с его предполагаемой верой в великие единые нарративы, с его телеологическими надеждами, иерархией исторических обстоятельств, реалистической верой в детерминированность исторических событий, чётким различием между центральными и периферийными процессами истории. Вместе с так называемым «новым историзмом» в 80-х на сцену вышел стиль исторической критики, построенный на жёстком неприятии всех этих доктрин[170]. Это было историографическим соответствием эпохе постмодерна, где даже упоминания об исторической истине, о причинной обусловленности, моделях, целях и направлениях развития чем дальше, тем чаще оказывались под огнём.
Новый историзм, в значительной степени сфокусированный на периоде Ренессанса, соединил эпистемологический скептицизм в отношении точной исторической истины с заметной боязнью великих нарративов. История оказалась не сплетением причин и следствий, а полем случайной, непредвиденной игры сил, в котором причины и следствия создаются наблюдателем, а не принимаются как должное. Теперь это была путаница рассеянных нарративов, где ни один из которых не более значим, чем любой другой, а всё знание прошлого искажено интересами и желаниями настоящего. Больше не существовало строгого разделения между историческими магистралями и узкими тропинками, а также чёткого противопоставления факта вымыслу. Исторические события трактовались как «текстуальный» феномен, в то время как литературные произведения рассматривались как материальные события. История стала формой повествования, обусловленной личными предубеждениями и пристрастиями повествователя, и, таким образом, разновидностью риторической беллетристики. Нет единственной установленной истины для конкретного повествования или события, есть лишь конфликт интерпретаций, чьи результаты в конечном итоге предопределяются властью, а не истиной.
Такое употребление термина «власть» напоминает о работах Мишеля Фуко. Действительно, во многом новый историзм был приложением фукольдианских тем к (по большей части) анализу культурной истории Ренессанса. Это выглядело довольно странно: если поле повествования и в самом деле открыто, как настаивает новый историзм, почему же тогда раскрываемые нарративы в основном столь предсказуемы? Допускается обсуждение сексуальности, но не общественных классов; этнической принадлежности, но не труда и материального воспроизводства; политическая власть обсуждается свободно, а экономика – недостаточно; то же с культурой и религией, соответственно. Не будет сильным преувеличением заявить, что новый историзм был готов исследовать любую тему в плюралистическом духе при условии, что она уже поднята где-то в работах Мишеля Фуко или имеет до известной степени прямое отношение к тяжёлому положению современной американской культуры. В конце концов, он меньше озабочен государством Елизаветы I или двором Якова I, чем судьбой бывших радикалов в нынешней Калифорнии. Патриарх школы Стивен Гринблатт перешёл от влияния Реймонда Уильямса, чьим учеником когда-то был, к идеям Мишеля Фуко, и это, помимо прочего, было движением от политических надежд к политическому пессимизму, которое хорошо отразило изменение настроений 1980-х, в том числе и в рейгановских Соединённых Штатах. Итак, новый историзм, безусловно, судил о прошлом в свете настоящего, но совсем не обязательно теми способами, которые делают ему честь, теми, которые подходили бы для самокритики или для исторических размышлений о самом себе. Прописная истина: последнее, что историзмы готовы представить на суд истории – их собственное историческое положение. Как многие другие постмодернистские формы мысли, новый историзм имплицитно предлагал в качестве универсального императива – например, в виде общего правила не делать обобщений – то, что, как легко увидеть с некоторого расстояния, исторически характерно лишь для отдельной фракции западных левых интеллектуалов. Возможно, в Калифорнии легче, чем в некоторых менее привилегированных местах, почувствовать, что история случайна, бессистемна и не имеет направления, – как Вирджинии Вулф было легче, чем её слугам, почувствовать, что жизнь обрывочна и расплывчата. Новый историзм выдвинул свою критику с редкой дерзостью и блеском, бросив вызов многим шибболетам[171] в исторической науке; но его отказ от макроисторических схем тревожно близок к банальному консерватизму, у которого есть свои политические причины пренебрегать такими понятиями, как исторические структуры и долгосрочные тенденции.