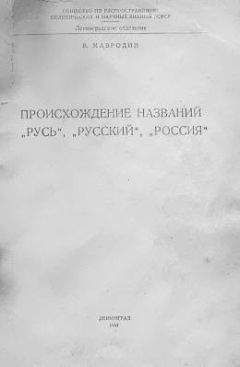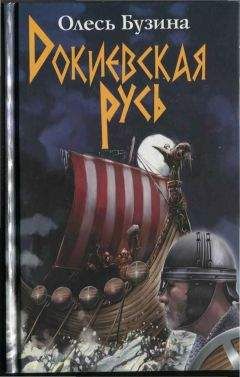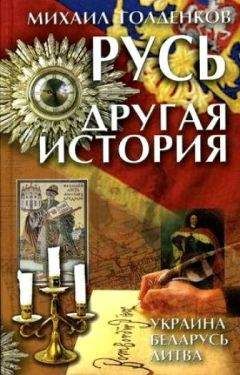Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Книга «Постель Стол», создававшаяся в основном зимой 1943–1944 гг., когда Элюар вместе с Нуш скрывался в горной клинике для душевнобольных, поражает своей безоблачностью – будто свинцовые тучи вовсе не обложили со всех сторон французский горизонт. В этих стихах, кажется, нет и следов военной беды, но как раз своей летней просветленностью они и принадлежат той суровой зиме. Не как отчаянно-судорожная попытка заговорить боль и хоть на минуту забыться, а как свидетельство того, что потребность в счастье и способность человека быть счастливым неистребимы, что против них бессильны расправы и бесчинства захватчиков. Коль скоро любовь уберегает от отчаяния, оставаясь неколебимой и среди катастрофы, значит, наша – на первый взгляд такая хрупкая – тяга к радости крепче самой стали, значит, дух наш наделен безграничным запасом жизнестойкости. И «в годину эту мы сохраним сопротивление детства, обнаженность листвы, обнаженность твоих светлых глаз». Потому что нет брони надежнее, чем эти простые и вроде бы совсем беззащитные вещи. Любовь на войне пробуждает и укрепляет мужество уже одним тем, что она есть, не завяла и не выветрилась, что ее не сломал разгул человеконенавистничества. И в этом смысле она – урок, помогающий выстоять не только самим любящим, но и многим другим, всем, с кем они делят утраты, невзгоды, подвиг. Элюар с полным правом полагает: «О ближний мой, мое раздумье о любви – и для тебя, и для меня». Близость двоих, впрочем, не просто духовная опора среди бед, но и побуждение к действию. По мере того как во Франции нарастал отпор врагу, Элюар все сильнее проникался иным, чрезвычайно требовательным взглядом на любовь:
Наша любовь не знала начала
Мы друг друга любили всегда
И потому что мы любим друг друга
Мы хотим всех людей избавить
От их одиночества ото льда
Мы хотим значит я хочу
Хочешь ты значит мы хотим
Чтоб солнечный свет скрепил
Влюбленные пары в расцвете сил
Влюбленные пары в дерзкой броне
Что видят подобно тебе и мне
Цель своей жизни в счастье других.
В «Семи стихотворениях о любви на войне», откуда взяты эти строки, «нежное товарищество» двоих, до сих пор остававшееся лишь отдаленным предвестьем истинных уз чело века и человечества, обретало то значение, без которого любящий Элюар был так или иначе в разладе с самим собой – гражданином, без которого «любить» и «делать» отделено перегородкой, а счастье, по его мнению, едва ли может быть и вполне разделенным, и вполне состоявшимся.
С тех пор любовь у Элюара не воспаряла над историей и не укрывалась от нее, а с ней смыкалась. Заново осмысленное извечное чувство отменяло всякую замкнутость, в том числе и затворничество вдвоем, избавляя Элюара от прежних наплывов смятения и тоски, грубо вторгавшихся в песнь обретенной радости и порой обрывавших ее на полуслове. Для Элюара зрелых лет «мы двое» так же невозможно без «мы все», как раньше «я» было немыслимо без «ты»; любовь – та первая искра, из которой разгорается пламя всечеловеческого товарищества. «Мы пойдем вперед не по одному, а по двое, узнавая друг друга по двое, мы узнаем друг друга все, и дети наши посмеются над черной легендой о плачущем одиночке».
Простейшая «цепочка нежности»: «я – ты» естественно развертывается у Элюара со временем в обогащенное «отношение братства»: «один – двое – все». Накал переживаний в его книгах «Белокрылые белошвейки», «Жаркая жажда жить», «Леда» от этого нисколько не ослабевает. Любящая пара, супруги, «мы» – это по-прежнему союз, наделенный волшебной силой давать тепло, радость, саму жизнь. «Сперва я назову стихии: твой голос, твои руки, твои губы. Я есмь на земле. Разве был бы я, если б не было тебя?» – так выглядит, по Элюару, ветхозаветное предание о сотворении жизни на земле. Вначале было двое: встреча мужчины и женщины, Адама и Евы (Элюар сам упоминает о чете библейских прародителей в эпиграфе к книге «Феникс») – начало всех начал, «первое человеческое состояние, подобное едва народившейся зелени лугов». Все, что этому предшествовало, – предыстория, первозданный хаос, из которого человек пока не выделился: один, он «пустой колодец шахты, гавань без кораблей, очаг без огня». Плоть, кровь, дух наполняют эту полую оболочку лишь тогда, когда к ней устремится «взгляд глаз столь же чистых, как и мои», когда прозвучат первые слова привета, когда к ней прикоснутся «руки, неустанные труженики сегодня, мужественные даже во сне». «В пустыне, которая обитала во мне и меня одевала, она обняла меня и, обняв, приказала мне видеть и слышать». И «я», отразившись в «ты», состоялось. И с этой минуты перед обоими распахнулись, чтобы впустить их, врата лучезарного «града солнца», во всем противоположного прежнему «граду скорби».
Мы двое крепко за руки взялись.
Нам кажется, что мы повсюду дома –
Под тихим деревом, под черным небом,
Под каждой крышей, где горит очаг,
На улице безлюдной в жаркий полдень,
В рассеянных глазах людской толпы,
Бок о бок с мудрецами и глупцами –
Таинственного нет у нас в любви.
Мы очевидны сами по себе –
Источник веры для других влюбленных.
С обликом этого края, где все прозрачно и все в ласковом согласии с двумя его обитателями, где вещи как бы продолжение желаний двух любящих, мы уже знакомы по прежним книгам Элюара. С той лишь разницей, что тогда еще не было дверей для входа в него всем другим – счастливым и бедствующим, а на его дорогах не встречались на каждом шагу прохожие – юные и пожилые, благоразумные и одержимые. Раньше в нем иной раз было что-то космически-холодноватое, он был скорее приспособлен для грезы, чем для жизни. Теперь он гораздо ближе, гостеприимнее, по-земному приветливее. И это потому, что расположен край обетованный не за тридевять земель, куда дороги ведомы одному воображению, в далеком «нигде» и «всегда», не причастном никакой совместно делаемой и совместно переживаемой сегодняшней истории. Наоборот, туда открылся доступ заботам и чаяниям века, а живущие там, в свою очередь, в полной мере ко всему этому подключены. У любви Элюара «столь значительные поля, что силы надежды находят там пристанище, чтобы вернее добиться освобождения».
Если любовь наша стала любовью
Значит вышла она из своих берегов
Значит она захотела выскользнуть за ограду
Словно змея и взмыть в небеса
Словно птица и уплыть в океан
Словно рыба и над временем власть обрести
Жизнь обрести смерть посрамить
И вселенной дать вечную юность.
Страсть двоих стремится выйти на простор и измерить себя масштабом жизни многих вовсе не потому, что любящие исчерпали все, что было заложено в их любви. Нет, просто их счастье не может не быть, по Элюару, вкладом в завоевание счастья всеми и каждым, в осуществление исконной мечты поколений об избавлении от зла и невзгод. Ведь уже одно то, что счастье стало чьим-то достоянием, развенчивает в глазах остальных все ханжеские доводы проповедников смирения и долготерпения, кричит во всеуслышанье, что человеку дано не только безуспешно гнаться за синей птицей, но и поймать ее, приручить. И в этом смысле любящие у Элюара вносят в общую всем сокровищницу свой личный дар, чтобы человечество воспользовалось им и стократ приумножило. Они – словно сеятели, бросающие в плодоносную почву семена, которые дадут щедрые всходы в умах и сердцах:
Но первое слово
Обетованного счастья людского
Что начинается счастьем двоих
Это доверчивый голос песни
Против голода против страха
Это всеобщего сбора сигнал.
У раннего Элюара любовь – фея-повелительница чудес, помощница грезы. Теперь она возвращает на землю, вдохновляет Элюара не на то, чтобы преображать жизнь в мечтах, а на то, чтобы пытаться ее переделать по меркам мечты. Когда любящий рассказывает о себе и своей подруге, его звездная быль откликается в сердцах слушателей вызовом всякой жертвенности, всякому аскетизму, приглашением пре ломить хлеб радости. Самое личное из чувств оказывается у Элюара самым всеобщим, приобретает безграничный раз мах. Оно одновременно и призыв, и первый шаг к тому содружеству людей-братьев, которое грядет, коль скоро их потребность в раскрепощении воплотится в дела. И не случайно поэтому любовная лирика позднего Элюара – тоже «лирика обстоятельств», неотделимая от дела, которому он себя посвятил. Не случайно тут всегда так привычно гибок переход от исповеди супруга к философскому прозрению мыслителя, охватывающего своим взором горизонты истории и вселенной, ее вчера, сегодня, завтра: