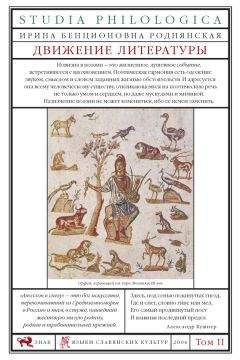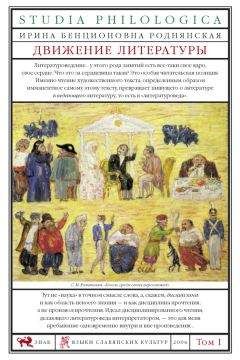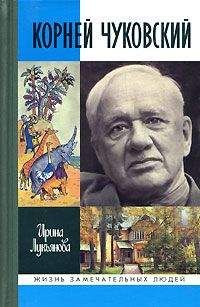Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Однако реставрация никогда не бывает полной, пореволюционный мир несет на себе непременные черты пронесшейся бури. Дело не в том, что Пастернак в «Августе» и отчасти в других стихах из романа, Заболоцкий в «Грозе», «Чертополохе», «Бегстве в Египет» и многом прочем вернулись к скорректированному их ранней манерой символизму – в это не совсем, как оказалось, покинутое «лоно всей новой русской поэзии». [250] Дело в том, что открытую однажды энергию словесного сдвига, как джинна в бутылку, уже обратно не загнать. «Неслыханная простота» по-прежнему остается ересью на фоне эпохального постсимволистского правоверия. Впрочем, не исключено, что и она будет канонизирована, если чей-то гений найдет для нее основание в глубинах новой поэтической философии, интуитивно совмещающей правду «платонизма» с правдой «энергетизма».
Возвращенные поэты
Неловко уже повторять конфискованное у Михаила Булгакова и пущенное по улице словцо: рукописи на горят. И тем не менее все растущая известность этого афоризма, который иным кажется теперь исполнившимся пророчеством, а другим – чуть ли не циничной насмешкой над утратами, – побуждает заново выяснить его отношение к истине. Как помним, знаменитая реплика вложена Булгаковым в уста князя тьмы, а этот персонаж (хоть и хранящий в романе осанку благородства), в соответствии со своей извечной репутацией – если не прямой обманщик, то, во всяком случае, парадоксалист, и словам его нельзя вполне доверять. Какие бы чудеса ни показывал он Мастеру, возвращая ему в целости сожженный труд, – исторические анналы и, конечно, хроники нашего века полны фактами невозвратной гибели талантов – и того, что они уже создали, и того, что, по нашим предположениям, могли бы создать… И вот что еще сгорает, даже когда сама отторгнутая «рукопись» остается невредима: ее горница в доме культуры, место, естественно предназначавшееся ей ходом культурного созидания. Ее постигает участь «перемещенных лиц», каковыми изобилует это тяжкое столетие, всех депортированных, репрессированных, эвакуированных: физическая сохранность открывает двери для ее возвращения, но в каком-то смысле настоящего возврата нет, ибо нет уже жизненного мира, из которого она была «выковырена», а в новом все устроилось, сложилось и распределилось без нее.
В общем, «рукопись» может гореть и тогда, когда не попадает в реальный огонь. Но есть в словах булгаковского персонажа правда, в которую верил и сам Булгаков. Живой, целостный организм культуры рано или поздно приращивает к себе то, что было отсечено, и извергает то, что было внедрено силою или обманом; перемещения составляющих с периферии в сердцевину и из сердцевины на закраины, а то и вовсе вон, происходят в нем независимыми и таинственными путями. Глядишь – и чудом не «сгоревшая» рукопись, еще недавно дожидавшаяся своей очереди в каком-нибудь санпропускнике, вселяется на свято место. Не заговор ли тут? Не интрига ли чья-то? Не всплеск ли моды? Нет, напротив, все искусственные усилия разбиваются об органическую, почти стихийную неизбежность самовосстановления культуры. Вот – род поздней славы, какую и себе предсказывал Булгаков, вот, думается, смысл его изречения.
… Совершавшееся на моей памяти возвращение в литературу больших русских поэтов шло внешним образом драматически и преткновенно, но внутренним – скорее триумфально. Я не застала времени, когда только-только выходил из-под глухого запрета Есенин, но многоэтапное пришествие Блока – он от десятилетия к десятилетию превращался из скромного, позади Брюсова, имени, на котором курсы литературной истории не особенно задерживались, в знамя русской поэзии XX века, – это восстановление истинного масштаба происходило у меня на глазах. Многим сейчас кажется, что поэтическую топографию четверть века назад резко изменило новое явление пристойно изданных Пастернака и Ахматовой, впервые как-то собранных Цветаевой и Мандельштама. На самом деле отсчет «возвращенцев» надо вести с Блока и Есенина, хотя формально они нас вроде бы не покидали.
У поэзии, как у всего живого, есть своя система экологических ниш. В течение минувших трех десятилетий временно пустовавшие ниши эти заполнялись одна за другой. После торжественного признания, полученного теми, кого я только что бегло назвала, в обители «русской музы XX века» стало достаточно людно. Сложилась некая упорядоченная по величинам и направлениям картина, может быть, и не попавшая на страницы специальных трудов, но интуитивно усвоенная читательским сознанием. Картина эта закреплялась на культурно-массовом уровне – работой чтецов, экскурсоводов и так далее. Обретена она была нелегко, – и от этого набрала добавочную прочность.
С «вернувшимися» в первое пятилетие новой свободы дело обстоит не совсем так, как с репутациями, возобновленными в конце 50-х – в 60-х годах. Они как бы избыточны, неприкаянны. Их, безотносительно к направлению и размаху дарования, припоминают-перечисляют через какой-то пулеметный дефис: Гумилев-Ходасевич-Набоков. Или, если хотят выпустить очередь подлиннее: Гумилев-Ходасевич-Набоков-Северянин-Адамович-Георгий Иванов. Удобно ли этим посмертным репатриантам в одной, так сказать, коммуналке? Раскланиваются ли они, аукаются ли друг с другом из углов наших повременных изданий? Стоит ли за беспрецедентно торопливыми, со взаимным наложением и перекрестом, журнальными публикациями этой поэзии что-нибудь, кроме сенсационной дозволенности, – какое-то серьезное культурное задание, духовно-просветительная или эстетическая цель? Многие, знаю, отвечают на эти вопросы односложным «нет», и скепсис их не так-то легко опровергнуть.
Существует мнение (его как будто разделяет Андрей Вознесенский в своем предисловии к стихам В. Набокова, опубликованным в № 11 «Октября» за 1986 год), что едва ли не главная цель и возможное следствие этих публикаций – подъем нынешней поэтической культуры. Ибо тут в оборот вводятся настоящие «мастера», знатоки языка, ковачи стиха. Мне эта мысль представляется более чем наивной. Она похожа на призывы времен Пролеткульта и РАППа «учиться у классиков» методам их работы, отметая или преодолевая их «классовую ограниченность». Уж сколько раз твердили миру, что поэтическая культура есть одна из граней культуры цельной, а та передается и приемлется не прямым научением, а неуследимыми «подпочвенными» и «воздушными» путями. Не говоря о том, что «поднять планку» культуры и утвердить в оценках наших «гамбургский счет» вряд ли удастся благодаря присутствию Набокова, Гумилева и Северянина, коль это до сих пор не удавалось в присутствии Бунина, Блока и Пастернака.
Конечно, есть историко-литературная – если угодно, учебная и ученая – сторона дела: тексты всех без исключения замечательных поэтов нужно сделать доступными и для стихотворца, и для исследователя литературы, и для любителя поэзии. Такую задачу должны решить прежде всего тома «Библиотеки поэта» (которая и задумывалась когда-то Горьким как своего рода пособие для самообразовывающегося литератора). И если такие издания запаздывают, то ясно, что произвольным выборкам и перепечаткам их собою не заменить. Последние можно счесть культурно значимым действием лишь в предположении, что вводимые таким путем имена исподволь меняют нечто важное в литературном сознании публики и что именно вольная, журнальная форма знакомства с этими именами дает для того подходящую пищу.
Думаю, так оно и есть. Поэтическая карта века уже изменяется для нас, несмотря на видимую ее стабильность и вопреки кажущейся бесприютности запоздалых пришлецов. И роль популяризаторских, хрестоматийных публикаций нашей прессы тут весьма высока, несмотря на всю их суетливую поверхностность, несмотря на пиратскую конкуренцию между «культуртрегерами» и текстологическую беспринципность многих из них.
Прежде чем перейти к сути, то есть к поэзии, кончим с технической стороной. Она тоже очень любопытна, ибо на ощупь ищутся решения в ситуации небывалой. Что выбрать, – если чуть ли не все уже успело, так или иначе, пройти через типографию и потому лишено девственной новизны? Но вместе с тем – недоступно абсолютному большинству читателей, превратившись в библиографическую редкость или будучи издано не на советской территории, – что ни возьмешь, все будет внове!