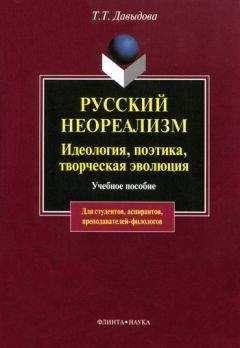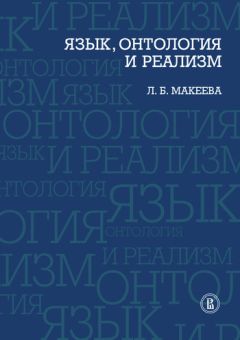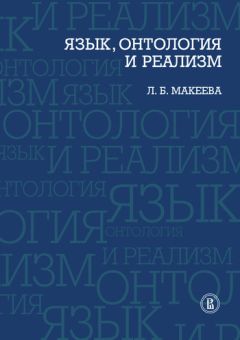Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание
Речь, таким образом, идет о первой мировой войне.
С этих первых своих строчек он утверждает верность народному, демократическому герою, солдатской его шинели на всех будущих дорогах, во все времена и войны. И сколько понимания в этой мастерски, уверенной рукой написанной картине движущейся толпы солдат и «свинцовой тяжести влитого в них солдатского горя».
Следует только восхищаться тем, как отчетливо заявил о себе Василий Гроссман в первом крохотном своем рассказе. Мощный образ идущей и молящейся многотысячной толпы солдат написан настоящим художником, хотя началом своего творческого пути он называл рассказ «В городе Бердичеве» (1934). И вообще более поздние вещи.
Когда я прочитала другой его рассказ — «Товарищ Федор», помеченный в сборнике 1931 годом (тоже до «начала»), меня охватили смутные предчувствия и тоска. Будто я попала в ту палату 2-й Градской больницы, в маленький флигель, где умирал Василий Семенович Гроссман, будто он описал свой конец, хотя герой рассказа не похож на него и даже прямо противоположен.
Герой рассказа, старый подпольщик, падает на улице на тротуар, потеряв сознание от легочного кровотечения, и попадает в больницу. И невозможно читать об этой палате, которая была точно такой: вытянутая комната с белыми стенами и большим окном, там стояли две кровати, на одной лежал Василий Семенович, другая была пустой. В рассказе все именно так. И пишет он о своем герое: «Грудь под одеялом то высоко поднималась, то спадала», и этот «хриплый кашель», сотрясающий тело, эти приступы непрерывного кашля и «сгустки тяжелой алой крови», выплеснутые в плевательницу. Будто это из моих записей — после «дежурств» в больнице у Василия Семеновича. Как он выхаркивал свои измученные легкие.
Герой рассказа был отрешен от простых радостей жизни, у него не было никогда дома, жены, детей. «Только старенькая фуражка», отдыхал же он в тюрьме…
Эта аскетическая вымороженность души пугает писателя, и в биографии героя нет никаких совпадений с собственной его жизнью. Но как сумел он в молодые годы представить так точно это последнее одиночество? Психологически так крупно. Здесь трагедия смерти в прекращении жизненных дел. Уходит дело жизни, одно за другим, одно за другим. И тогда герой остается один, без всех своих жизненных дел. И наступает конец.
Есть одна фраза в этом рассказе… Я слышу до сих пор, как он произнес ее.
После операции Василий Семенович лежал в Боткинской больнице. Ему удалили почку, было это, вероятно, в 1963 году. Рак, но ему сказали — киста. Хирург назвал время, когда появилась опухоль. И буквально совпало оно, время: катастрофа с романом, «изъятие» из жизни живого романа, только что вышедшего из-под пера писателя, как каторжного убийцы, насильника и рецидивиста.
Считалось, что хирургическая операция прошла успешно, хотя хирург как будто сказал: «Раньше, чуть-чуть-чуть раньше…» И Василий Семенович лежал сравнительно недолго. Но сначала лежал пластом — и тогда сказал (не мне одной он тогда это говорил):
— Неужели никогда больше не придется полежать на зеленой траве. Броситься и поваляться…
И вот я читаю сейчас в этом рассказе о товарище Федоре. Однажды герой ехал по важным делам, стоял на площадке последнего вагона, поезд шел очень медленно, и он слышал, как шуршала высокая трава. И вдруг его охватило желание тут же сойти с поезда, «кинуться в траву, лечь, подложив руки под голову, и смотреть в небо…» Федор даже ухватился крепче за поручни вагона, чтобы не сделать этого. Когда в больнице Федор вспомнил об этом, «ему стало смешно».
Так этот образ зеленой травы как символа жизни возник в рассказе о герое, которому перед смертью становится смешно от своих воспоминаний. Но родился он в душе писателя, который пронес его через всю жизнь.
Когда он лежал в своей палате в Градской больнице (после того, как болезнь накинулась на легкие, сначала одно, потом очень быстро — другое) на узкой, короткой ему больничной кровати, большое окно выходило в густой, зеленый, заросший деревьями двор. И прямо под окнами спорили две тетки, наверно, уборщицы или санитарки — о соседке, обеде и ужине. Спорили бесцеремонно и громко об обыденном, бытовом. Сначала я не обратила на них внимания, мне тогда не мешали они. Но Василию Семеновичу было плохо, он лежал молча и тяжко дышал. И вдруг я поняла, как назойливо, грубо и нескончаемо долго тянется разговор и звучат под его окном их голоса, будто собственной кожей… И сказала, что они вот так кричат, я сейчас выйду во двор и скажу, чтоб не кричали там. Но он улыбнулся и рукой остановил меня:
— Не надо, — сказал он, — они совсем не мешают мне… Ведь это жизнь.
Посмотрев на него еще раз, я поняла, что молчал он не потому, что стало ему хуже, просто он внимательно и дружелюбно слушал и ловил эти громкие голоса жизни.
Потом добавил, что чужое радио — это не жизнь, и оно мешает и раздражает всегда. И дома на Беговой, прямо из соседской стены. Я сама один раз слышала, как она гудела.
Он прочитал мне вслух главу из «Все течет». А на другой день сказал, что жалеет, что могли услышать, что в квартире своей он этого делать не должен. Был недоволен собой и мной, что я не прервала его. И тогда я сказала про радио за стеной, что оно так орало, что заглушало некоторые слова, и придется ему прочитать мне вслух эту главу еще раз. Улыбнулся печально и сказал:
— В другой раз.
Это было в перерыве между больницами. В Градскую лег в июне 1964 года. Терял силы, не мог ходить, непрерывно кашлял. С катастрофическим остервенением накинулась на него болезнь. Только что читал и писал… Гулял.
Я узнала его по-настоящему после «катастрофы с романом».
Но до этого всю жизнь знала его, а он меня, конечно, не знал, знал немного, но не так, как я его. Я брала у него интервью для «Литературной газеты», бывала дома в первой его квартире, встречалась в Коктебеле. Особенно в Коктебеле в 1955 году. Он улыбался тогда, здоровался издали, весело махал рукой. Я со стороны смотрела на него: высокий ясный лоб, за очками синие глаза, черные волнистые волосы зачесаны назад… Он был ровен, казалось — счастлив и спокоен. Я знала, что он пишет новый роман. И печать счастья, творчества и творческого покоя лежала на его лице. Он казался здоровым, загорелым и молодым. На фоне коктебельского синего моря и сказочных гор его прекрасные синие глаза казались особенно синими. Этот синий свет не угасал до последних минут жизни. Очки круглые были частью его лица. А рот нес страдание — рот библейских мучеников и мудрецов. И улыбка тоже.
После его смерти Ольга Михайловна подарила мне маленькую любительскую фотографию. Она предложила на выбор, и я ухватилась за нее, — потому что именно таким он был в последние годы. Я выбрала ее еще и потому, что на ней — Гроссман в Армении.
Он поехал в Армению (если называть все своими именами) из-за нужды и несчастья. Поехал, чтобы переводить роман армянского писателя — после «катастрофы с романом» его перестали печатать, ему не на что было жить. Ведь роман он писал «около десяти лет» — это подлинные его слова.
3 ноября 1961 года утром он приехал поездом в Ереван. Жизни ему было отпущено три неполных года, вернее, три года минус пятьдесят дней. И он тратил эти бесценные дни на перевод. Хочу добавить, что сам он не жаловался на новую для него работу и отнесся к переводу серьезно, спокойно, был доволен.
Вместе с этим переводом в результате путешествия по Армении появились на свет в 1962 году «Путевые заметки пожилого человека» (потом переименованные в «Добро вам!»).
И хотя он был приговорен к смерти, можно только удивляться, как вылилась эта вещь, с какой силой, наперекор всему — как куст «татарника» в «Хаджи-Мурате».
Почти все оставшиеся годы я была редактором этих «заметок», и об этой трагедии в моей профессиональной жизни я хотела бы рассказать отдельно и о его доверии — не могу найти другого слова.
Он пишет в «Заметках», что в Армении на нем был «толстый шерстяной шарф» и «новое демисезонное пальто, — я его купил перед отъездом». Знатоки светской жизни ему сказали: «Не блестяще, но для переводчика прилично».
И вот эта фотография… Гроссман в Армении. Тоже словно библейский сюжет. Он сидит на каком-то невидимом камне где-то в горах в этом самом длинном темном демисезонном пальто (я помню его), застегнутом, вероятно, на все пуговицы. Голова открыта, лицо повернуто чуть вбок. Он сидит, и полы длинного пальто чуть расходятся книзу. А сверху в отворотах пальто — краешек белой рубахи, завязанный отчетливым узлом темный галстук и краешек того самого шерстяного шарфа, в котором он приехал в Армению. Пальто очень темное, и на этом фоне — светлый треугольник у груди, светлый облик лица и сжатые на коленях кисти рук — так отчетливо видны руки, вылезшие из рукавов пальто, пальцы, переплетенные, кончики манжет и часы.