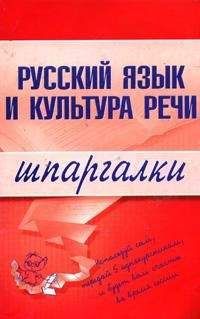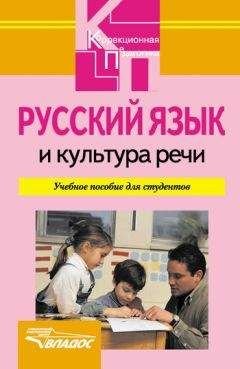Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина
В научной литературе не раз отмечалось, что в панегирической «картине великого замысла у Пушкина все же заложена и двусмысленность» [12. С. 350]. Наиболее подробно исследовавший этот вопрос М. Еремин, высказался еще решительнее: «За интенсивной высокостью эпического повествования, а может быть, точнее, в самой этой высокости, так сказать, в недрах ее, вполне различима искусно введенная поэтом тема вины Петра, повелевшего строить город на болотах, решившего в Европу прорубить окно в такой гиблой местности, где оно будет неведомо лучам «в тумане спрятанного солнца» (…)А ведь большей части граждан будущего города предстояло жить в первых этажах или малых домишках – на этих низких берегах, под вечной угрозой наводнения…» [18. С. 164–165]. Поэтому, «если основание города и было победой над стихией, то, очевидно, не полной», поскольку сопротивление природы и «доселе столь угрожающе» [18. С. 158]. Не случайно же поэт буквально заклинает «побежденную стихию» не тревожить «вечный сон Петра».
Но заклинает напрасно. И если Вступление – в духе «Виндзорского леса» Поупа – еще являет нам гармоническую картину единства природы и культуры, то в основной части идиллия безжалостно рушится и оборачивается трагедией. Мятеж Петра против «Божией стихии» вызывает ответный мятеж стихии против Петра.
И, наконец, последний штрих – важнейший полемический и политический намек в тексте поэмы:
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
Стремительное возвышение новой столицы, был убежден поэт, неизбежно приводило к упадку Москвы – центра и оплота аристократической оппозиции (ибо не могут две столицы «в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом» [8. Т. 7. С. 189]), а вместе с нею – к утрате политического значения (значит, и упадку) тех старинных и независимых боярских родов, к которым принадлежал и род «бедного Евгения»[14]. Сам факт существования нищего аристократа был в глазах Пушкина живым укором и угрозой Петру. А стремление подорвать значение старой, наследственной и потому независимой знати – безусловным свидетельством его деспотизма, поскольку деспотизм, полагал поэт, «окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость» [8. Т. 8. С. 410] (подробнее см. [20. С. 125–126; 21. С. 331]).
Можно сказать, таким образом, что Петр I, «революционер на троне», по формуле Герцена, и «воплощение революции», по словам самого Пушкина, своей радикальной преобразовательной деятельностью готовил почву для новых возмущений, как природно-стихийных, так и общественно-политических. В сюжете «Медного всадника» они оказались сплетенными в единый узел.
Теми же свойствами – мятежностью и двойственностью – наделена в поэме и Нева. Ее «державное теченье» в гранитных берегах, ее прекрасные острова, покрытые «темно-зелеными садами», служат едва ли не главным украшением прекрасного города и способствуют вящей славе Петра. А в то же время, как уже говорилось, она втайне враждебна Петру, не может простить ему утраченной свободы и забыть «плен старинный свой»; она всегда готова к возмущению и бунту. Со всей определенностью об этом говорится в черновой редакции поэмы:
Но побежденная стихия
Врагов доселе видит в нас.
И в окончательном тексте вышедшая из берегов и ринувшаяся на город Нева мгновенно и резко преображается.
Недаром же страшный удар стихии сравнивается в поэме с нападением вражеского войска («Осада! приступ!..»), с битвой («как с битвы прибежавший конь») или с разбойничьим набегом безжалостной злодейской шайки[15], cтановится обобщенным образом катастрофы, всякого бедствия вообще. Можно сказать даже, что бунт Невы (ср. в одном из вариантов: «Нева на площади бунтует» [10. С. 68]) – это как бы эхо недавних потрясений, пережитых русским обществом, – таких, как пугачевщина, война 1812 г., выступление декабристов, польское восстание или бунт в военных поселениях, когда, казалось бы, незыблемая самодержавная власть вдруг заколебалась. Е. Н. Купреянова обратила внимание на то, что «экспрессивное изображение наводнения выдержано в стиле традиционного для русской литературы первой трети ХIХ в., в том числе и для творчества Пушкина, метафорического уподобления исторических потрясений – мятежа, бунта, иноземного нашествия – “грозе”, “буре”, “морскому волнению” или просто “волнам”. Правда, в “Медном всаднике” имеет место, казалось бы, обратное – уподобление разбушевавшейся природной стихии грозному историческому потрясению. Но суть дела от этого не меняется, ибо ассоциативная связь между прямым и переносным значением уподобления остается той же» [22. С. 303].
Не менее важно, что сама разыгравшаяся стихия одушевлена, наделена человеческими эмоциями («Но торжеством победы полны / Еще кипели злобно волны», мрачный вал плескался о пристань, «ропща пени», «буря злилась» и т. п.). Более того, она напоминает больное, обезумевшее существо («Нева металась, как больной / В своей постеле беспокойной»; «И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась…»). В одном из черновых вариантов об этом говорилось еще более откровенно: «Неве безумной – в тишине, / Грозя недвижною рукою» [10. С. 68]. Иными словами, бунт Невы против Петра есть следствие ее болезни, ее безумия. Аналогия с Евгением, «безумцем бедным», тут очевидна.
Мало того: убравшись восвояси после «опустошительного набега», Нева оставляет след своего пребывания в затопленном и разоренном городе не только в виде многочисленных бедствий и разрушений. Она воздействует на душу Евгения («…Мятежный шум / Невы и ветров раздавался / В его ушах…»), заражая его своей дикой злобой, «силой черной» и подготавливая тем самым новый мятеж против Петра.
О двойственности фигуры Евгения – ничтожного, смиренного чиновника и потенциального бунтаря – мы уже говорили. Обратим теперь внимание на то, с какой настойчивостью стремится поэт сократить дистанцию между ним и исполином Петром, достичь, по словам Ю. Б. Борева, «соизмеримости, сочетаемости двух, казалось бы, не сопоставимых фигур» [23. С. 136]. Действительно, в самый пик наводнения Евгений оказывается на одном из двух мраморных львов, которые, «как живые»(!), стоят над «возвышенным крыльцом» нового дома «на площади Петровой» – за спиной бронзового всадника. В результате возникает иллюзия, что, «оседлав льва», Евгений «как бы гонится вслед за Петром, сидящим “на бронзовом коне”». И далее: «Погоне Медного всадника за бедным безумцем предшествует “погоня” Евгения верхом на мраморном льве за Петром» [23. С. 136].
Конечно, погоней назвать эту сцену можно только условно: Петр явно не замечает своего «преследователя». Он – и это тоже символично – «обращен к нему спиною», ибо все его внимание привлекает бунтующая Нева – главная, как он полагает, угроза городу, да и ему самому. В отличие от слабовольного Александра, он не сомневается, что сможет укротить стихию. Свидетельство тому – и «неколебимая вышина» его пьедестала, и гордая поза, и властно простертая рука.
Но и Евгений, озабоченный судьбой Параши, тоже видит перед собой не только и не столько спину Петра, сколько бушующую Неву:
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были…
К тому же, оседлав беломраморного льва, он и сам, «недвижный, страшно бледный», на время как будто застывает, становится подобием статуи:
И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может…
Словом, как заметил. Д. Д. Благой, «если при первой встрече – каменеет Евгений, при второй – оживает статуя» [4. С. 220].
Сближение – противостояние Евгения и Петра продолжается во второй части поэмы. Лишившийся рассудка, Евгений, казалось бы, окончательно теряет человеческое обличье, балансирует на грани бытия и небытия, реальности и грезы. Его существование становится призрачным, мнимым:
…Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый…
Зато он обретает теперь дар прозрения, способность смотреть в глубь вещей, напоминает отчасти юродивого, что было подчеркнуто красноречиво-многозначительной строкой «колпак изношенный сымал» (замененный в окончательном тексте на «картуз») [10. С. 72, 75][16]. Вспомнивший «прошлый ужас» и испытавший «страшное» прояснение мыслей, он, наконец, понял, кто виновник всех его несчастий. Именно в этот момент Евгений отваживается выйти из-за спины бронзового кумира, стать против него и прямо в лицо бросить ему страшную угрозу. И угроза эта не случайна: Евгений действует «как обуянный силой черной», ибо его душа заражена и заряжена мятежным духом взбунтовавшейся Невы (ср. [21. С. 349]). И эта мятежная вспышка вновь сталкивает и вновь уравнивает – пусть на мгновение – Евгения и Петра.