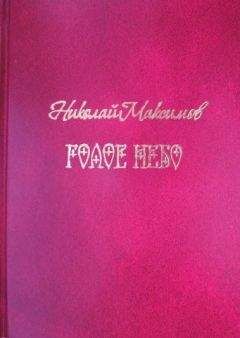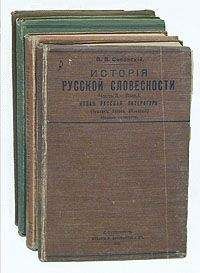Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
Во многих произведениях Достоевского есть пародийная составляющая, которую не всегда оценивают по достоинству. А она тем не менее имеет важнейшее значение, и не обязательно объектом пародирования становится какой-то конкретный писатель, скажем Гоголь, который в это время заметен во всех произведениях Достоевского (особенно в «Двойнике», но так же и в «Хозяйке», где смесь фантастического и фольклорного устроена совсем как в рассказе Гоголя «Страшная месть», но пародийно переплетается с чертами авантюрного романа: разбойниками, выстрелами и т. п.). Эти произведения становятся сценой настоящей дискуссии о литературных жанрах, в которой определенный жанр подчеркивается иногда даже слегка преувеличенно, а потом исчерпывается: так история безумного музыканта и договора с дьяволом в первой части неоконченного романа «Неточка Незванова» напоминает романтизм Э.-Т.-А. Гофмана (или В. Ф. Одоевского), но эти жанровые признаки подчеркиваются даже слишком, а потом продолжение первой части уводит нас совсем в другую сторону. В очередной раз это оказывается скорее экспериментом с жанром произведения (и попыткой подвергнуть этот жанр сомнению), чем использованием на практике традиционных приемов. Следовательно, писательская манера Достоевского строится на преодолении существующих моделей, и Гоголь — не единственный пример из молодости, который он таким образом оркеструет: перед нами проходят все модные в то время жанры, от романа-фельетона до социального романа, от сентиментальной мелодрамы до приключенческого романа и романа с тайной, О. де Бальзак, Ч. Диккенс, Э. Сю, Ф. Сулье, В. Гюго, Гофман и многие другие.
С точки зрения изучения жанров анализ первого большого романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861), о котором часто пишут как о переходном и достаточно слабом произведении, оказывается весьма продуктивным. Роман состоит из двух линий, почти совершенно независимых друг от друга. Первая линия — любовь Наташи — явственно восходит к сентиментальной мелодраме, а вторая — история маленькой Нелли — напоминает Гофмана и в то же время в ней есть переклички с «Лавкой древностей» (1840) Диккенса. Противники романа обрушивались на эти черты сходства с английским романом, даже усматривали плагиат: они не поняли, что эти созвучия — составная часть замысла романа. Так же как имя Гофмана явно названо, роман Диккенса тоже упоминается с помощью весьма красноречивых деталей: Достоевский дает своей героине то же имя, что и у героини английского романа, заключает такой же странный секретный союз между ней и стариком, как и у Диккенса, — таким образом Достоевский делает сходство весьма заметным, и даже слишком заметным.
При этом нужно констатировать, что ключевые сцены со слезами, которые сопровождают мелодраматическую линию повествования, отмечены такой чрезмерностью, что подозреваешь их в пародийности.
Итак, привлекает к себе внимание прежде всего не то, что писатель по-разному обходится с этими линиями своего повествования, а то, что эти жанры представлены вместе и в одном и том же произведении. Если понять это, сосуществование двух интриг, разделенных почти искусственно и объединенных, что весьма показательно, с помощью фигуры повествователя, представляется исполненным особого смысла, а вовсе не недостатком архитектурного устройства романа. Более того, архитектура романа как раз и оказывается в центре внимания.
Игра с ультракодифицированными жанрами встречается и во всех последующих произведениях Достоевского, независимо от их содержания.
Еще один хороший пример — «Записки из подполья» (1864). С точки зрения содержания это произведение подводит итог прошлому, готовя одновременно почву для следующих романов. Но то же самое можно сказать и о литературно-эстетической стороне: тут к полемике против организаторов принудительного счастья и социальных утопий, унаследованных от Ж.-Ж. Руссо, добавляется чисто литературная полемика — во второй части романа, той самой, за которую Достоевского ругали те, кто не понял его замысла, или не захотел понять, в том числе и Набоков.
Часто можно прочитать, что вторая часть романа, повествовательная, служит плохой иллюстрацией к первой, теоретической, части и что их соединение искусственно. Это, конечно, не верно ни в психологическом, ни в философском плане, которых мы, однако, касаться не будем. Но это столь же неверно и в чисто литературном плане. Во второй части история чистосердечной проститутки Лизы — ситуация, типичная для социального романа с примесью романтизма. Но названный жанр имеет свои обязательные черты: юная проститутка должна оказаться спасенной героем, который также должен быть чист, а здесь ее унизили и оскорбили, а потом еще и выгнали. Рассуждение о природе повествования мы обнаруживаем и в речах героя, который комментирует собственный стиль («…я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской неизъяснимо благородной тонкости»[28]) и отвергает чувства, которые мог бы испытывать, если бы не происходил из подполья: «И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих „поганых сантиментальных душ“!»[29] Пародийность очевидна, и она даже подчеркивается в начале второй части, эпиграфом к которой поставлены строки Н. А. Некрасова:
Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья,
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки.
Тебя опутавший порок.
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена…
Трудно было бы придумать что-то более язвительное, тем более что в подписи сказано только: «Из поэзии Некрасова», как будто эти стихи могли быть взяты из любого его произведения! Что касается «и т. д.», здесь ясно показывается, что мы можем угадать продолжение, где говорится о прощении, которое получает падшая женщина, и все кончается словами (саркастически произнесенными героем дальше в повести): «И в дом мой смело и свободно / Хозяйкой полною войди!»[31] Налицо обилие литературных штампов, и Достоевский высмеивает все это не только своим «и т. д.», но также историей, где герой унижает и выгоняет из дома проститутку, готовую раскаяться, которую в шаблонном произведении, вроде стихотворения Некрасова, обязательно бы спасли и приютили. Следовательно, в «Записках из подполья» в дополнение к ощутимой сложности на уровне психологической структуры, а также идеологической и философской организации текста со всей очевидностью присутствует еще и металитературная (автореференциальная) составляющая.
Удивительно, что Набоков не заметил этой стороны творчества Достоевского: он видит только смесь западных «готических романов» с «религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность»[32]. Еще он упрекает Достоевского в безвкусице — его сентиментальность нужна только для того, чтобы вызвать сочувствие читателя, и не преследует никаких художественных целей. Все держится только на интриге, и Достоевский оказывается «прежде всего автором детективных романов»[33], умеющим «мастерски закрутить сюжет и с помощью недоговоренностей и намеков держать читателя в напряжении»[34], но его книги не выдерживают повторного прочтения.
«Записки из подполья» (это, по мнению Набокова, заметки «маньяка», причем такие «посредственные подражатели Достоевского, как французский журналист Сартр, продолжают пописывать в том же духе и по сей день»[35]) он критикует за «назойливое повторение слов и фраз», за «стопроцентную банальность каждого слова» и за «дешевое красноречие…»[36]. Удивительно, что Набоков совсем не задумывается о смысле именно такого устройства произведения: из двух частей, которые кажутся автономными только на первый взгляд. Для него только после первой части, которую он называет «прологом», со второй главы второй части «начинается действие»[37]. Набоков имеет в виду только историю Лизы, но он мог бы вспомнить фразу Гоголя из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»: «С этой историей случилась история».
Так же близоруко разбирается «Преступление и наказание» (1866): Набоков в нескольких строках уничтожает роман, ругая его за банальность. По мнению Набокова, банальностью является сцена чтения Евангелия Раскольниковым и Соней, в ней начало раскаяния Раскольникова отмечено фразой, «не имеющей себе равных по глупости во всей мировой литературе»[38]. Набоков считает, что нет никакого смысла в треугольнике «убийца и блудница» и «вечная книга», это просто набор литературных клише: этим двум персонажам нечего делать вместе уже потому, что «Христианский Бог <…> простил блудницу девятнадцать столетий назад», а «убийцу следовало бы прежде всего показать врачу», «убийца и блудница за чтением Священного Писания — что за вздор! Здесь нет никакой художественно оправданной связи. Есть лишь случайная связь, как в романах ужасов и сентиментальных романах. Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой поэтики и набожности». И в отношении ремесла Сони: «Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово»[39].