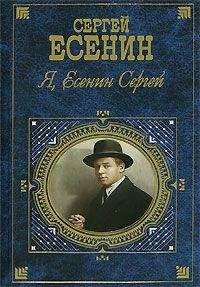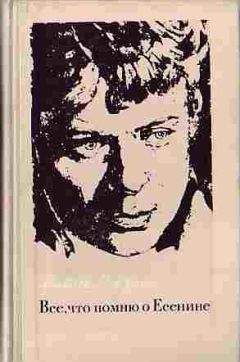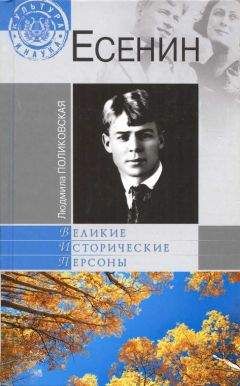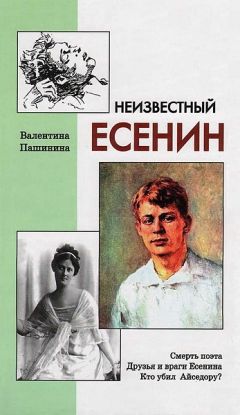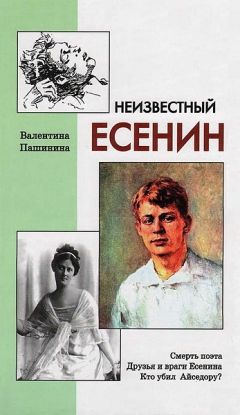Елена Самоделова - Антропологическая поэтика С. А. Есенина: Авторский жизнетекст на перекрестье культурных традиций
1) фольклорно-собирательская и публикаторская деятельность писателя; характер и роль источников свадьбы в ее естественном изустном бытовании, в концертном варианте и затем в печатном виде – как предварительный материал для творчества;
2) отношение крестьянина к народной свадьбе (в противовес или в дополнение к позиции дворянина, иначе говоря – взгляд со стороны и изнутри фольклорной культуры);
3) влияние места рождения и дальнейшего местожительства поэта (и шире – нахождения в городской или деревенской среде) на его принадлежность к носителям фольклора;
4) обусловленность вхождением в какой-нибудь кружок любителей устного народного творчества или, шире, ревнителей русской культуры, либо, наоборот, интерес собирателя-одиночки;
5) исследование свадебного обряда в теоретическом плане (сопоставление русского и иноэтнического материала, прослеживание хронологической и географической изменчивости обрядности свадьбы);
6) отражение свадебной проблематики в художественных сочинениях на разных уровнях поэтики и жанров; включенность мировоззренческих аспектов свадьбы в документалистику – записи дневникового характера, мемуары и эпистолярий, а также использование элементов народной свадьбы в собственном бракосочетании.
Особенности народной свадьбы в Константинове: свадебный сезон, многочисленность ритуальных действ
Свадьба – один из трех главных «посвятительных» обрядов жизненного цикла, оформляющий новый социовозрастной статус человека и подтверждающий факт создания новой семьи в конкретных национально-этнических и сословно-классовых общественных рамках. При жизни Есенина в конце XIX – первой половине XX вв. свадьба занимала ведущее место не только в семейной обрядовой системе, но и в народном календаре, что выражалось в ее протяженности во времени, в пересекаемости с новогодьем, зимним солнцестоянием и весенним равноденствием и даже в выделенности особенного «свадебного» месяца в году.
Свадебный сезон длился обычно (и в родном Есенину селе Константиново) с Покрова до Красной Горки. [32] По сведениям А. Д. Панфилова, известным ему от старожилов Константинова, «некоторые свадьбы игрались по весне, особенно в пасхальную неделю, и летом, но все же большинство приходилось на осень, начиная с Покрова» [33] (1/14 октября по ст./н. ст.). В с. Константиново и его окрестностях записана частушка, упоминающая «местное» свадебное время и шутливо обыгрывающая запрет устраивать бракосочетание во время постов:
Как на речке под мостом
Щука вдарила хвостом,
Ребята Пасхи не дождались,
Переженились все постом. [34]
По данным метрической книги с. Константиново, разысканным ст. науч. сотрудником музея О. Л. Аникиной, после Покрова, но в том же месяце – 26 октября 1870 г. – состоялась свадьба дедушки с бабушкой Есенина по отцовской линии. Сохранилась запись в церковной книге: жених – «временно обязанный крестьянин Никита Осипов Есенин, православного вероисповедания, первым браком, 27 лет»; невеста – «временно обязанная крестьянка Агриппина Панкратова, православного вероисповедания, первым браком, 16 лет»; поручители со стороны жениха – церковный староста, зажиточный и уважаемый в селе человек Архип Трифонов и Павел Антонов (супруг Веры Осиповны); со стороны невесты – Митрофан Панкратов (брат невесты) и Яков Тимофеев (свояк Митрофана Панкратовича); таинство совершали священник Павел Миртов, диакон Иван Тихомиров, дьячок Николай Орлин, пономарь Трофим Успенский. [35]
Время сватовства – зимний Микола (6 декабря ст. ст.) – запечатлено в частушке, записанной Есениным в Константинове:
В эту пору, на Миколу,
Я каталася на льду.
Приходили меня сватать,
Я сказала: не пойду! (VII (1), 336).
С. А. Есенин, родившийся в с. Константиново Рязанской губ. и никогда не терявший связи с «малой родиной», являлся носителем крестьянской фольклорной культуры. Есенин не был теоретиком свадьбы как национального феномена, и неизвестно, записывал ли он свадебные тексты так же, как фиксировал частушечные произведения для анонсированного в 1915 г. сб. «Рязанские прибаски, канавушки и страдания» (не издан). Среди опубликованных в газете «Голос трудового крестьянства» (1918, №№ 127, 135, 139, 144) четырех подборок «прибасок» (то есть частушек) и «страданий» (то есть двухстрочных частушечных форм южнорусского типа) встречаются тексты со свадебной тематикой (VII (1), 317–337, 529). Фольклорно-этнографически-ми зарисовками рязанской свадьбы насыщена повесть «Яр» (1916). [36] Свадебные образы, иногда неожиданно переосмысленные и получившие даже ок-сюморонную оболочку, разбросаны по есенинской лирике, а названия обрядовых моментов даже запечатлены в заглавиях некоторых стихотворений – например, «Девичник» (1915).
При жизни Есенина в Константинове свадебный обряд включал следующие ритуалы, распределенные на протяжении многих недель: сватовство – Богу молиться – рубаху кроить – брагу затирать – елку рядить – девичник с расплетанием невестиной косы – принесение постели к жениху и привоз сундука с приданым невесты – венчание – подмена молодых ряжеными – сыр носить – ряженые ходят ярку искать на второй день – барана искать на третий день [37] .
Участие Есенина в свадебном ряженье
Есенин подходил к свадьбе как к жизнеспособному явлению, активно бытующему в сельской местности, и сам с радостью вовлекался в ритуальное веселье. При малейшей возможности поэт старался вовлечь друзей в участие в свадебном ритуале. Так, В. Т. Кириллов вспоминал приглашение Есенина: «Не знаешь ли, где здесь продают “русскую горькую”? Еду к себе в деревню на свадьбу. <…> Поедем, будет весело, на станции нас встретят с лошадьми и гармошками. Погуляем!» [38]
Это воспоминание по своей сути (но не по географической и хронологической характеристикам) перекликается с сообщением местной жительницы с. Константиново, переданным со слов ее свекрови: «Свадьбы. Они доверили всё – весь этот, все продукты; даже ключ мне дали – вино там, продукты; говорят: ой, он меня затеребил, дай мне бутылку! Давай мне бутылку! Вот! Я, говорит, ему так и не дала. Говорю: на кой тебе? Наверно, хотел кого-нибудь угостить, что ли. Вот Есенин так – он у моей у свекрови на свадьбе, у неё. Она говорит: все продукты были, мне доверили, и ключи мне отдали; а он мене затеребил: дай мне бутылку! Ха-ха-ха! <…> Да помню: такой красивый, у!» [39] Следовательно, современники Есенина прежде всего вспоминают о хлебосольстве и широте натуры поэта.
Известно несколько описаний участия Есенина в свадебном ряжении. Только об участии поэта в качестве гостя и ряженого на свадьбе его двоюродного брата в июне 1925 г. имеется 6 воспоминаний: Е. В. Воробьевой, А. А. Соколовой, Г. А. Бениславской, И. И. Старцева, В. Лихоносова, В. Ф. Наседкина.
Заведующая отделом Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове В. А. Вавилова привела бытовавший в родном селе поэта и в конце XX века обычай: на следующее после венчания утро по селу идут наряженные родные новобрачной «искать заблудившуюся ярочку». Они стучатся в окна дома молодого, требуют вернуть ярку, им выводят сначала одну девушку, потом другую и наконец настоящую молодую; посреди избы бьют горшок с монетами, чтобы новобрачная подметала пол. Исследовательница сообщила, что «Елена Васильевна Воробьева <ей шел 89 год> рассказывала, как в 1925 году Есенин приезжал на свадьбу к брату. А на следующий день она видела его среди наряженных. На нем было синее платье с оборкой, а на голове полушалок. И такой он был красивый в этом одеянии… Елена Васильевна вспоминает: “Зашел он к нам в дом, поздоровался со всеми и спросил: „Ну, как, хорошая я барышня?“ Свекровь ответила ему: „Да, барышня из тебя хорошая вышла“”». [40]
Эти сведения дополняются воспоминаниями А. А. Соколовой, жены директора школы в Константинове, к которой заходил ряженый в женскую одежду Есенин летом 1925 г., когда он приезжал на свадьбу своего двоюродного брата Александра Ерошина. [41] И. И. Старцев также описывал ряженье Есенина на этой свадьбе: «Летом 1925 года мы побывали с Сахаровым на родине Есенина, на свадьбе его двоюродного брата. <…> В памяти осталось: крестьянская изба, Есенин, без пиджака, в растерзанной шелковой рубахе, вдребезги пьяный, сидит на полу и поет хриплым голосом заунывные деревенские песни. Голова повязана красным деревенским платком». [42]
В. Лихоносов писал о Есенине (с Г. А. Бениславской; с ошибочной датой): «Раз на свадьбу приезжал, по-моему, за год до смерти. Двоюродного брата. С женой ли, с кем. Черная, наподобие цыганочки, с косой, развитая женщина. <…> Помню, на свадьбе горшки бил, в шубу рядился. А потом я с охоты шел, он с ней в лугах мне попался. Коня отобрал у мужика, ее наперед посадил, сам к ней спиной и бьет кобылу по заду. Смеху было! Чудак. Они все такие, видать… И Пушкин тоже…» [43] Симптоматично сопоставление Есенина с Пушкиным, который не был замечен ряженым: это ритуальное действо на дворянской свадьбе не практиковалось. Но склонность к безотчетному веселью, безудержному балагурству звучит в пушкинских стихах.