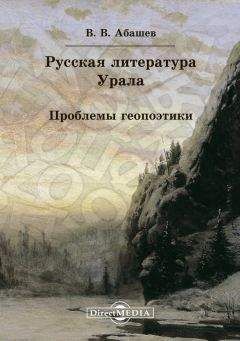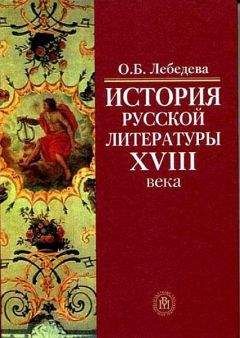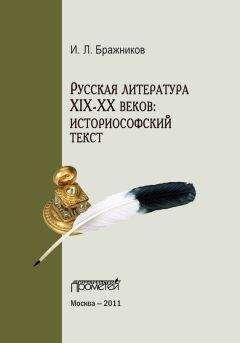Владимир Абашев - Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века
Иначе говоря, название работает как активная структура, внутренне перестраивающая реальный объект по образу и подобию имени. Конечно, вещественно и функционально все остается на своих местах, но семиотически имя и внешность здания образуют новое сложное визуально-словесное единство, колоритное означающее, которое пребывает в собственном движении. Семиозис выводит здание из тех функциональнопредметных рядов жизни города, где оно привычно существует и воспринимается, – архитектурноградостроительного и политико-административного (как помещение УВД) и включает его в иной, почти фантасмагорический план с соответствующими ситуациями и действующими лицами: жестокими пытками, казнями, беспощадными палачами, беспомощными жертвами и безысходностью.
Означивание изымает вещь из чисто предметного плана и перемещает ее в символический. В символическом слое жизни города «Башня смерти» вступает в новые отношения. Она входит в один ряд с другими семиотизированными реалиями Перми – ручьем Стикс, Сибирским трактом, убийством Михаила Романова, со всеми реалиями, создающими каторжно-ссыльный колорит пермской истории. Такие отношения нельзя описать в терминах причинно-следственных или функционально-предметных связей. Они имеют другую, чисто семантическую природу, и точнее их можно квалифицировать как синонимические. То есть семантически эквивалентные.
В каком же отношении реальное здание УВД находится к «Башне смерти»? Вещественно они совпадают (хотя и не полностью!), но в функциональносмысловом плане, как видим, расходятся очень далеко. Поэтому хотя референциально «Башня смерти» соотнесена с известным сооружением, это лишь ее первичная референция, создающая основу для жизни означающего. Двигаясь же в символическом поле города, «Башня смерти» становится одним из знаков Перми, соперничая в репрезентации города с антонимичной ей башней колокольни Спасо-Преображенского собора.
«Башня смерти» – один из частных примеров, где обнаруживает себя символический слой жизни города. Он представляет особую ипостась реальности, которой и должна заниматься семиотика города. В сферу компетенции локальной семиотики исторические события, вещи и лица, это место наполняющие, входят лишь постольку, поскольку они здесь воспринимаются и обращаются в локальных коммуникациях в качестве означающих этого места. В отличие от истории, семиотику интересует не достоверность и не причинноследственные связи событий и фактов, а их ассоциативные связи и нарративные возможности, то, как они функционируют в текстах.
В рассказе «Башня смерти» (1997) пермского прозаика Анатолия Субботина этот элемент пермского текста реализовал свой нарративный потенциал. Башня стала главной площадкой фантасмагорических событий в духе Кафки и популярных антиутопий. Ее описание конкретно и узнаваемо, но подчинено, как и действие в рассказе, семиотике этого объекта: «Башня Смерти, куда заключили Старыгина, возвышалась в центре города <…> Стык башни и шпиля образовывал открытую террасу, огражденную железными перилами. Днем и ночью, круглый год по террасе кружил часовой. В целом же Башня Смерти представляла собой универсальное заведение правосудия, работающее полный, законченный цикл: суд, тюрьма, казнь»27. В этом описании, собственно говоря, свернута схема повествования: суд, тюрьма, казнь. Семиотика башни таким образом выступает в своем текстопорождающем качестве. Рассказ Субботина в этом смысле написан не только автором, но и Пермью. Башня смерти в центре современного мирного города – это готовое зерно сюжета. Нужен только автор, который бы расслышал и записал этот сюжет.
Три сестры
Обратимся к еще одному элементу пермского текста – уже литературного порядка. Это чеховский сюжет о судьбе трех сестер, живших, как в письме к Горькому бегло заметил сам автор, в «провинциальном городе, вроде Перми»28. С точки зрения истории три сестры – чистый вымысел, не подлежащий ведению исторической науки. Однако беглого чеховского замечания о Перми, а также некоторого сходства черт, характеризующих город в драме, с пермскими реалиями (явный северо-восток России, снег, выпадающий порой в мае, большая река, вокзал, далеко отстоящий от города) оказалось вполне достаточно, чтобы связь пьесы с Пермью стала восприниматься здесь как почти непреложный факт. В Перми показывали «дом трех сестер»29, краеведы разгадывали прототипы чеховских героинь30. Сложилось настоящее городское предание, и тени трех сестер стали принадлежностью пермского ландшафта. Так, в очерке прозаика А. Варламова чеховские героини появляются как красноречивый знак Перми: «По контрасту с крикливой яркой Москвой Пермь выглядела сиротливо и бесприютно: худо одетые женщины с серыми безнадежными лицами, азербайджанские торговцы, нечищеные улицы, ранние сумерки, и в этих сумерках – призрак трех сестер, заламывающих руки над высоким камским обрывом»31. Автор очерка использует чеховский образ как эмблему Перми, репрезентирующую город в пространстве русской культуры и объясняющую его характер.
Таким образом судьба чеховских героинь, их сакраментальный рефрен «В Москву! В Москву!» включились в локальный знаковый обмен как одно из суггестивно сильных означающих пермской духовной ситуации. Примеры, подтверждающие это обстоятельство, привести нетрудно. Вот один из них. «Мало кому известно, что губернский город, где живут и мучаются чеховские три сестры, скучный городок на берегу реки, где вокзал железной дороги – почему-то! – в двадцати верстах от города, это – Пермь <…> так что тоска по столице у нас, пермяков, в крови, эти вечные ночные толчки сердца: в Москву, в Москву, в Москву», – вот так в очерке Анатолия Королева «Русские мальчики» чеховский сюжет интерпретирует тягу творчески одаренных юношей-пермяков (и личную судьбу автора) вырваться из омута провинции32.
Более сложный пример использования чеховской модели можно найти в стихотворении о Перми Александра Раха, литератора уже другого, нежели А. Королев, поколения: «А по улицам сонным/По вкрапленьям окурков нетленных/Тихо плачет и шляется/ Провинциальная Вера/В безнадежной тоске –/Потеряла Надюшу и Любу,/Двух сестренок своих,/Ни за что убиенных»33. Здесь чеховский сюжет предстает в предельно универсализированном виде: как знак обреченности города, утратившего высшие ценности. По поводу этого текста важно отметить, что присутствие в стихотворении чеховского сюжета (а именно он конструирует высказывание) можно определить только в связи с пермским локальным контекстом. То есть знание о том, что в стихотворении речь идет именно о Перми, необходимо для дешифровки текста. Все эти примеры подтверждают, что чеховская драма уже фактически стала для Перми инстанцией, действенно влияющей на формирование высказываний пермяков о Перми или, иначе говоря, кодирующей эти высказывания.
Ермак
Обратимся теперь к реалии другого рода, историческому факту. Поход Ермака и личность легендарного покорителя Сибири – это, конечно, реальный документированный факт истории. Но в пермский текст он входит не как реальное событие в его причинноследственных связях и сопутствующих обстоятельствах, а в качестве суггестивно богатого словесно-визуального означающего, которое в процессе семиозиса отделилось от реального события и начало свою самостоятельную жизнь в истории.
Поскольку поход Ермака начинался из пермских земель, покорение Сибири Ермаком и сама личность казацкого атамана были усвоены локальным самосознанием в качестве местного мифа. Это усвоение отразилось в топонимике Пермского края, многочисленных преданиях и даже в укладе жизни. По свидетельству очевидца, в середине XIX века в Перми можно было наблюдать нечто вроде культа покорителя Сибири: не было «зажиточного дома, в котором бы не висело Ермакова портрета»34.
Типичность этой детали, подмеченной П. И. Небольсиным, подтверждают также более ранние свидетельства П. И. Мельникова. По его словам, «Ермак живёт в памяти жителей Пермской губернии; много преданий и песен о нём сохранилось до сих пор. В селах и деревнях у всякого зажиточного крестьянина, у всякого священника вы встретите портрет Ермака <…> Приписывая своему герою чудесные деяния, Сибиряки хотят освятить его именем всякую старинную вещь»35. Влиятельность и суггестивность имени Ермака простиралась до того, что даже древние петроглифы на Писанном камне, по наблюдениям того же П. И. Мельникова, почитались местными жителями как магические знаки, оставленные самим Ермаком: «Простолюдины с уверенностью рассказывают, что эти письмена написал Ермак, который, по их словам, был большой чародей»36.
Среди перечисленных фактов особенно красноречиво включение портрета Ермака в интерьер сельского и городского жилища. Разумеется, подобный портрет мог бы украсить интерьер жилища в любом регионе России, но для Перми это был безусловно вполне осознанный, системный и в культурном плане особенно значимый жест. Портрет покорителя Сибири метонимически означал приобщённость каждого пермяка большой героической истории, а в целом «культ» Ермака способствовал коллективной культурной и исторической самоидентификацию местных жителей.