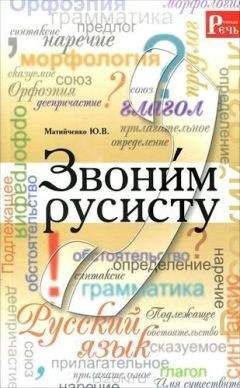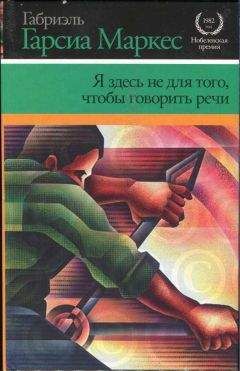Г. Коган - Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования
Понедельник 16/4 <сентября>. Записываю я нынче очень мало, а это потому, что решительно нечего записывать <…> Утром переписала продиктованное Федей и этим несколько убила время, потом мы ходили обедать, ели отлично. Вообще день у нас проходит таким образом, что просто и описывать нечего, все, как всегда, по обыкновению скучно. Ходили на почту, получили от мамы письмо, но не франкованное. Пришлось заплатить 90 с, Федя не мог не заметить мне это, что письмо было нефранкованное, я очень удивилась этому и сказала, что обыкновенно письма она франкует; он несколько раз повторил, что ему пришлось заплатить 1 франк, как будто бы это так много значит, что следует мне говорить об этом. Мне это было, право, больно, так я молчала. Письмо пришло в субботу, но вчера взять нельзя было, так что оно пролежало все воскресенье там.
Вторник 17/5 <сентября>. Решительно эти 3 дня только и делает, что идет дождь, да такой сильный, что выйти нельзя. Голова у меня болит невыносимо, а пройтись нет никакой возможности, потому что дождь идет из ручья, решительно не знаем как мы пойдем обедать. Хотели было сходить обедать в кофейную Роланд, что напротив нас, где мы раз пообедали, но решили, что это уж слишком гадко, так лучше, хотя и по дождю, но идти в отель д’Ор.
Утром Федя немного писал, а я все валялась на постели, так у меня сильно болела голова. В 2 часа пошли обедать, взяв от хозяек зонтик, который сделался причиной ссоры между нами, именно, так как под одним зонтиком под руку идти было гораздо удобней, то Федя и взял меня под руку и, очень весело распевая, мы пошли через мост. Но тут мне случилось поскользнуться, но так сильно, что я было чуть не упала; вдруг Федя раскричался на меня, зачем я поскользнулась, как будто я это сделала нарочно, я ему отвечала, зонтик не панцирь, и что он дурак. Так мы дошли до библиотеки, где Федя отдал книги, но потом мне сделалось так досадно, да и было неприятно идти под руку с человеком, который на меня сердит. Я и пошла без зонтика, а он под зонтиком. Потом ему показалось, что какие-то торговки смеялись, видя, что он идет покрытый, а я нет, и он перешел на другую сторону улицы, я решительно не знала, к чему это и отнести; и когда он вздумал пройти нашу гостиницу, то напомнила ему, что у меня денег нет и обедать я одна не могу. Он перешел на мою сторону и, идя по улице, ругался <…> Мне ругаться не хотелось, я молчала, потом только мы, не разговаривая, отобедали, Федя пошел за книгами, а я домой. Вечером мне не хотелось с ним ссориться, я расхохоталась, заставила его тоже расхохотаться и не сердиться на меня. Потом он лег спать и спал часа 2. Когда он проснулся, то попросил папироску и я ему поспешила подать ее, но так как я в папиросах толку не знаю, то и подала такую, какая не курится, он просил положить ее на стол и подать другую. Я так и сделала, но пока я вынимала из портсигара другую папиросу, он мне закричал, чтобы я несла поскорее, тогда я почти бросила к нему на постель и портсигар и спички. Вдруг Федя начал кричать, как, бывало, он кричал у себя дома <…> Я молчала, но потом сказала ему, что не хочу терпеть, чтобы он меня так ругал, что я к этому не привыкла, что если он не мог <до сих пор?> отвыкнуть от брани, то я все-таки не намерена его слушать. Так мы довольно сильно побранились, но потом мне не хотелось браниться, я постаралась примириться с ним, что мне совершенно удалось. Но Федя очень злопамятный нынче стал, он меня долго упрекал и потом обидел, сказав, что считал меня 10 из 1000, а я оказалась 100 из 100. Но полно об этом говорить, ведь известно, что никакой муж не считает своей жены и умной, и доброй, и развитой, ведь это так уж известно, что, право, и говорить-то не следует. Вечером он диктовал, а я писала и плакала, так мне было грустно, просто ужас, от одной только мысли, что он, тот человек, которого больше всего на свете люблю, тот-то и не понимает меня, тот-то и находит во мне такие недостатки, которых во мне решительно нет. Потом Федя просил меня объяснить, почему я плачу, но так как говорить было долго, да и что говорить, ведь его не убедишь, то я кое-как отделалась от разговоров <…>
Среда 18/6 <сентября>. Сегодня утром встала опять с больной головой, право, не знаю, когда это у меня кончится. Потом писала несколько времени и в 9 часов разбудила Федю к кофею. Он каждый вечер боится припадка, но вот, слава богу, все проходит благополучно. Потом в 12 часов он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас сегодня нечем обедать. Но потом он через час воротился, сказал, что не застал закладчика, да и очень рад этому, потому что получил деньги от Майкова. Майков прислал деньги, 125 рублей русскими деньгами, это было, пожалуй что, и неудобно, потому что <ходили> разменять у одного банкира за 100 рублей 330 франков, но Федя пошел по другим банкирам и ему разменяли за 335, так что он получил 418 франков. Вместе он получил письмо от мамы и принес мне, но тут он никак не мог удержаться, чтобы мне не заметить, что письмо было нефранкованное, что он опять заплатил франк. Как это скверно, право; он, разумеется, нисколько не понимает, что мама для нас делает, сколько она для нас хлопочет, это он решительно не ценит, а тут ценит какой-нибудь маленький франк, считает, что вот, дескать, пришлось мне заплатить за письмо. Как это низко, право, такая подлая скупость; разумеется, если бы у нас франк был последний, ведь нет же, ведь у нас теперь 420 франков, следовательно, один жалеть нечего. Да, наконец, если бы даже действительно было жалко, то ведь это меня оскорбляет, его замечание, неужели он не может удержаться, чтобы мне так не заметить. Он ответил, что, может быть, у мамы денег нет, чтобы послать, а послать хочется; мне так досадно. Неужели мне, чтобы избавиться от упреков, придется написать бедной мамочке, чтобы не присылала мне нефранкованных писем, мне написать это будет так тяжело, как один бог только знает.
Федя сел писать, а меня послал за сахаром и чаем, который у нас весь вышел <…> Потом ходили обедать. Вечером, когда Федя лег немного отдохнуть, я села писать дневник. Он спал часа 2 с половиной. Наконец, ко времени чаю я его разбудила и, дав ему папироску, села молоть кофе. Как будто он совершенно проснулся, но когда начал курить, то опять заснул, папироса выпала у него из рук, и если бы я не заметила скоро, то, вероятно, бы произошел пожар. Мне почему-то вздумалось спросить его, я подбежала и отняла папироску. Но было уже поздно, он успел уже прожечь простыню и небольшую дырочку на их синем тюфяке. Мне опять было до такой степени смешно это происшествие, но я удержалась смеяться, чтобы его не рассердить. Мы решили, что как-нибудь надо поправить дело, сделать или заплату или как-нибудь, а так, чтобы наши старухи не заметили и не рассердились на нас. Потом мы стали писать, и когда пришла старуха поправить постель, я ужасно боялась, как бы она чего не заметила. Федя опять боялся очень, чтобы не случилось припадка, но его, слава богу, не было. Сегодня, когда рассчитали наши деньги, то Федя сказал, откладывая 100 франков в стол: "А вот на эти я отправлюсь в Саксон ле Бен"[442]. У него есть решительно намерение отправиться туда, ведь вот странный человек; кажется, судьба так сильно наказывает, так много раз показала ему, что ему не разбогатеть на рулетке, нет, этот человек неисправим, он все-таки убежден, и я уверена, что всегда убежден, что непременно разбогатеет, непременно выиграет, и тогда может помочь своим <подлецам>.
Четверг 19/7 <сентября>. Сегодня день превосходный, я постаралась пораньше окончить мое писание и так как у меня довольно сильно болела голова, то я и решилась куда-нибудь пойти погулять. Федя остался писать, а я отправилась. Дал он мне денег 20 франков, чтобы я могла купить себе вуаль, потому что он все меня бранит за неровности кожи. Пошла я сначала на почту, где ничего не получила, оттуда хотела идти в здешний музей, но раздумала и решила прогуляться в Каруж, куда мне давно хотелось съездить <…> На дороге я нашла несколько каштанов на земле, совершенно спелых, мне вздумалось их собрать и отнести в подарок Феде. У меня только и есть подарки, что камни или еловые шишки. Я набрала штуки 4, хотела, придя домой, попросить спечь их и попробовать, потому что мне никогда не случалось их есть <…> От станции дилижанса отправилась я по магазинам попытаться купить <вуаль?>, но оказалось, что он стоит 41/2 франка, синий, вовсе не такого сти<ля>, как бы я желала. Так я и отложила намерение купить, потому что не знаю, могу ли я так много истратить <…>
Пришла домой. Федя еще продолжал писать. Он говорит, что эта статья ему не даром досталась, что она ему так трудна, что писать ему не хочется ее, так что он ужас как теперь мучается[443]. Пошли обедать, а после обеда я убедила Федю купить себе шляпу. Правда, у него шляпа не слишком чтобы уж такая дурная, но он все толковал, что ему нужна шляпа, а потому и я решилась настоять на том, чтобы он приобрел себе новую. Зашли мы в один магазин, и здесь Федя начал примерять разные шляпы, но все они оказались ему узкие <…> Федя выбрал шляпу черную, не особенно чтобы уж хорошую, но ничего. Она даже к нему не идет, и в ней он очень похож на те пирожки, которые продают, такие славные пирожки, в Гостином дворе. Заплатили за нее 10 франков, но я стала уверять Федю, что шляпа удивительно как хороша и как идет к нему, а он несколько даже кокет<ливо> потом целые 3-4 дня после покупки поглядывал на себя в зеркало <…> Он пошел читать, а я зашла за бумагой (по 15 с. за 6 листов) и здесь спросила, что стоят резные коробочки с живописью, самая маленькая стоит 2 франка, игольник тоже, набор ложек для салата стоит 10 франков и т. д. Тоже я заходила спросить, что стоит 1 веер из коричневого дерева, резной, с изображением разных костюмов Швейцарии на каждом листочке веера. Коричневый стоит 30 франков, и, судя по работе, это право недорого, а белый 22. Жаль, что у меня денег нет, а то бы я непременно купила себе такой веер. Потом зашла я за галстуком и купила себе синий, очень хорошего цвета, за полтора франка, так что даже и Федя остался им доволен, да это гораздо и лучше, потому что галстуки так скоро мараются, а все-таки полтора франка вовсе не так жаль, как если бы пришлось заплатить 6 франков.