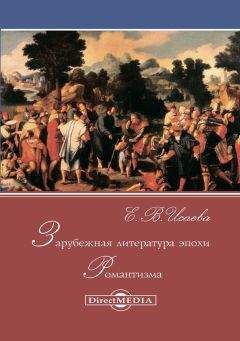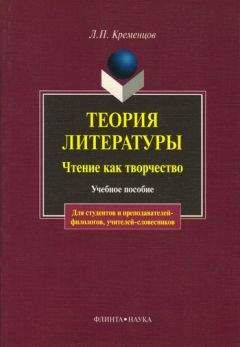Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика
Сталинские положения, как уже отмечала Н. А. Слюсарева, «в общем не выходили за пределы традиционных представлений, накопленных в науке о языке».[458] Точнее, речь шла о представлениях, накопленных к началу XX в., идеи же структурной лингвистики, преобладавшие к 1950 г., не отражены в работе. «"Материализмом" в языкознании было обьявлено то, что раньше называли „буржуазной наукой“».[459]
Итог работы оказывается двойственным. С одно стороны, ее основная часть завершается словами о необходимости «внедрения марксизма в языкознание» (18). Но с другой стороны, о марксизме много говорится в связи с вопросами о надстройке и классовости языка. Зато в позитивной части, где говорится о том, как строить науку о языке (12–16), это слово упомянуто лишь дважды, причем по одному и тому же поводу: «Марксизм не признаёт внезапных взрывов в развитии языка» (15). «Марксизм считает, что переход языка от старого качества к новому происходит не путем взрыва, не путем уничтожения существующего языка и создания нового, а путем постепенного накопления элементов нового качества, следовательно, путем отмирания элементов старого качества» (15). Но ведь принятый в марксизме закон перехода количества в качество, сформулированный еще Гегелем, предполагает как раз не только «постепенное накопление», но и обусловленный им «взрыв», переход в качественно новое состояние. У Сталина здесь мы видим чисто эволюционный подход к развитию языка, свойственный немецким младограмматикам и их русским последователям вроде Д. Н. Кудрявского. Именно этот подход скрывается у Сталина под марксистской оболочкой.
Всё это соответствовало общему подходу Сталина последних лет жизни. Правя двумя годами раньше доклад Т. Д. Лысенко, «на полях против заявления Лысенко, что „любая наука классовая“, Сталин написал: „ХА-ХА-ХА. А математика? А дарвинизм?“».[460] Как пишет Ж.А. Медведев, «понятие „советская наука“ воспринималось теперь как „отечественная наука“, чтобы подчеркнуть этим преемственность между советским и российским, дореволюционным периодами».[461]
Еще один вопрос, на котором надо остановиться, – о соотношении между МФЯ и работой Сталина. Была попытка представить идеи МФЯ как «предвосхищение» идей Сталина о языке.[462] Эта попытка представляется неубедительной, о чем писал В. Л. Махлин,[463] с которым по данному вопросу можно согласиться. В сталинских работах можно найти переклички (может быть, и случайные) с формулировками «врага народа» Е. Д. Поливанова (см. выше), с брошюрой обьявленного тогда «космополитом» П. С. Кузнецова против Марра (например, о том, что сравни-тельно-историческое языкознание лучше марризма тем, что толкает к изучению языков). Но общие с МФЯ положения, исключая апелляции к марксизму и самые общие формулировки (например, что язык – средство общения между людьми, о чем писали очень многие), найти вряд ли возможно. Об отношении Бахтина в 50-е гг. к сталинской брошюре речь пойдет в шестой главе.
Зато различий можно найти немало. Например, в МФЯ подчеркивается принципиальное различие между орудиями труда, не являющимися знаками, и языком как знаковой системой; Сталин же их сближает. И к надстройке язык безусловно отнесен в начале второй главы первой части МФЯ. Но главное даже не в этом. В двух работах по философии языка под языком понимается не одно и то же.
Для Сталина язык – это прежде всего «грамматический строй» и «основной словарный фонд», то есть главное из того, что фиксируется соответственно в грамматиках и словарях. Уже из этого очевидно, что, с точки зрения МФЯ, работа Сталина относится к «абстрактному объективизму».
Автор недавней японской работы, посвященной вопросам языка в сочинениях Сталина, ставит любопытный вопрос о сходстве идей брошюры 1950 г. со структурализмом.[464] Но идеи структурализма непосредственно у Сталина не отразились, а Танака прав в том смысле, что общее здесь – в более широком круге идей. В МФЯ эти идеи названы «абстрактным объективизмом», свойственным не только Соссюру и его последователям. Ссылаясь на работу,[465] о которой я специально говорю в пятой главе, японский ученый критикует и Сталина, и структуралистов за сведение языка к «технике» при игнорировании «идеологии».[466]
К. Танака излишне снисходителен к марризму и излишне строг к советской лингвистике после 1950 г. Однако заслуживают внимания его слова о том, что работа Сталина показала невозможность существования марксистской лингвистики.[467]
2. Советские работы после 1950 г
После смерти И. В. Сталина ссылки на его труд, переставший издаваться, исчезли очень быстро, реально даже до XX сьезда КПСС. В целом с тех пор о нем чаще вспоминали за рубежом. Там иногда можно встретить работы, основанные на его идеях. Например, см. небольшую книгу индийского автора, посвященную вопросам социального функционирования языка.[468] См. также упомянутую книгу,[469] где сталинская брошюра (в отличие от более ранних работ того же автора по национальному вопросу) оценивается критически. В современной России бывают попытки марксистской интерпретации этой брошюры, например у Ю. П. Белова, но их рассмотрение выходит за пределы лингвистики.
Тем не менее о сталинских публикациях помнили многие (иные лингвисты помнили целые куски из них наизусть), и подспудное их влияние оставалось. Положения младограмматизма, составлявшего важный, но уже пройденный этап науки о языке, стали благодаря ним для многих авторитетными. Нередко их изображали «марксизмом в языкознании».
Но к собственно проблеме марксистского языкознания все это имело мало отношения. Сама эта проблема после 1950 г. и особенно после 1956 г. ушла на периферию внимания. В качестве представительного примера я просмотрел журнал «Вопросы языкознания» за первые полвека издания с 1952 г. Результат оказался на первый взгляд неожиданным. Хотя стандартные упоминания марксизма встречались часто, особенно в первые годы издания журнала, но собственно марксистской проблематики очень мало. За 50—60-е гг. можно отметить лишь три статьи. Это небольшая статья о законах диалектики в языке,[470] информативная историографическая статья о вопросах языка в трудах Антонио Грамши[471] и присланная из Франции статья,[472] о которой речь пойдет ниже. Небольшой всплеск таких публикаций был в 1970 г. в связи с 150-летием со дня рождения Ф. Энгельса, но на этом фактически рассмотрение данной проблематики в журнале закончилось. Замечу, что и активных попыток разоблачения марксизма в последние полтора десятилетия в этом журнале не было. Просто для большинства авторов эти вопросы не были интересны.
Тем не менее, разумеется, слова «марксизм» и «марксистский», в том числе в словосочетании «марксистское языкознание», в 50– 70-е гг. можно было встретить часто. Особенно задавали здесь тон ученые, воспитанные еще в 20—30-е гг. и первоначально принадлежавшие к марристскому лагерю: Ф. П. Филин, Р. А. Будагов и др.; примыкали к ним и более молодые языковеды: В. З. Панфилов и др. В 70-е гг. и в начале 80-х гг. они пользовались официальной поддержкой. Они в целом исходили из положений сталинской брошюры (не ссы-лаясь на нее, это не было принято), иногда с добавлением некоторых идей марристов. Они относили себя к марксизму в науке о языке, резко критикуя «идеалистические» концепции структурализма, а затем и генеративизма. Но что они реально имели в виду под марксизмом?
Множество цитат из классиков здесь не в счет. Как и во времена Марра, они чаще использовались не по существу, а то и с ошибками. Например, Р. А. Будагов рассуждал о трактовке теории относитель-ности Эйнштейна в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленина, хотя в этой книге теория не упоминается. Если отвлечься от таких цитат и от политических ярлыков, то оставались три основных теоретических положения.
Во-первых, это понимание лингвистики как чисто исторической науки («антиисторизм» был любимым ругательным эпитетом Ф. П. Филина): «Единственным методом подлинного обьяснения системы является метод исторический, основывающийся на марксистско-ленинском понимании истории».[473] «Синхронно-системный метод» признавался лишь в том случае, если он «решает определенные конкретные задачи и не претендует на главенствующее положение в теории языкознания».[474] Но такие высказывания (естественно, без апелляций к марксизму-ленинизму) вполне соответствовали идеям лингвистики XIX в.
Второй чертой, связанной с первой, был подчеркнутый эмпиризм, отказ от научных абстракций. Структурализм и тем более гене-ративизм постоянно обвинялись в «схематизме», отказе от рассмотрения языковых явлений во всех деталях. Для Ф. П. Филина «какие бы новые принципы составления словарей ни выдвигались, словари всегда будут собранием отдельных слов и ничем другим».[475] Он же вовсе отрицал теорию, не связанную с анализом конкретных фактов: «Появляется странная разновидность языковедов, о которых нельзя сказать, какой или какие языки являются их специальностью»[476] (куда бы он отнес Волошинова?). В каждой теоретической книге Ф. П. Филина или Р. А. Будагова значительную (и лучшую) часть занимают очень конкретные исследования истории отдельных слов. Такой подход тоже идет от XIX в., но не из всего века, как историзм, а из его второй, позитивистской половины, когда господствовало «преклонение перед фактом».