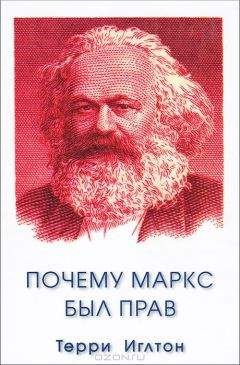Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
Джеймс Джойс – англоязычный автор, который, возможно, является наиболее интересным примером приложения теории Кристевой[146]. Но многие аспекты этой теории хорошо видны на примере манеры письма Вирджинии Вулф, чей текучий, распылённый, чувственный стиль сопротивляется мужскому метафизическому миру, который в её романе «На маяк» символизирует мистер Рэмзи. Мир Рэмзи существует при помощи абстрактных истин, чётких определений и раз и навсегда закреплённых сущностей – это патриархальный мир, в котором фаллос является символом уверенной, истинной самоидентичности и это не подвергается сомнению. Современное общество, как сказали бы постструктуралисты, «фаллоцентрично». Кроме того, оно, как мы уже видели, «логоцентрично», убеждено в способности своих дискурсов дать мгновенный доступ ко всей истине, к настоящей сути вещей. Жак Деррида соединил эти два термина в сложное слово «фаллогоцентрический», которому приблизительно соответствует общеупотребительное слово «самоуверенный»[147]. С помощью этой самоуверенности те, кто владеет сексуальной и социальной властью, сохраняют то, что ими захвачено. Такому положению вещей и бросает вызов «семиотическая» проза Вулф.
Тут возникает щекотливый вопрос, часто обсуждающийся в феминистской теории литературы: существует ли специфический женский способ письма? «Семиотика» Кристевой не является в своей основе женской: большинство «революционных» писателей, которых она обсуждает, мужчины. Но поскольку семиотика близко связана с материнским телом и существуют сложные психоаналитические причины, по которым женщины поддерживают с ним более тесную связь, чем мужчины, можно предположить, что такое письмо в целом более типично для женщин. Некоторые феминистки резко отвергли эту теорию, опасаясь, что она всего лишь изобретает «женскую сущность» во внекультуном смысле, и подозревая, что она, возможно, просто высокопарный вариант сексистского взгляда на «женский лепет». С моей точки зрения, ничего этого в теории Кристевой нет. Важно понять, что семиотика не является альтернативой символическому порядку, языком, на котором можно говорить в противовес «нормальному» дискурсу: это, скорее, процесс внутри наших привычных знаковых систем, нарушающий их пределы. В теории Лакана любой, кто не может полностью погрузиться в символический порядок, чтобы символизировать свой опыт через язык, становится психотиком. Семиотика может быть воспринята как некая внутренняя граница символического порядка, и в таком случае «женское» может быть понято как существование на этой границе. Женское, однажды созданное в рамках символического порядка, как и всякий гендер, и сразу отосланное к его границам, приговариворено к подчинению маскулинной силе. Женщина находится одновременно «внутри» и «за пределами» мужского общества, она является в равной степени его романтически идеализируемым членом и отверженной жертвой. Иногда она оказывается тем, что стоит между мужчиной и хаосом, а иногда сама воплощает этот хаос. Она колеблет точные категории режима, делает его чёткие границы размытыми. Женщины вписаны в управляемое мужчинами общество, зафиксированы в знаке, образе, значении, но, поскольку они представляют собой «негатив» социального порядка, в них всегда есть нечто избыточное, непредставимое, то, что избегает быть отмеченным.
С этой точки зрения женское – способ существования и высказывания, который не обязательно идентифицируется с женщинами, – обозначает силу внутри общества, которая ему противостоит. И это имеет явные политические соответствия с формами женского движения. В политическом отношении теория Кристевой – о семиотической силе, которая подрывает устойчивые значения и институты, – есть некий род анархизма. И если бесконечное ниспровержение всех фиксированных структур является неадекватным действием в области политики, таковым же в теоретической сфере является положение, будто любой литературный текст, подрывающий смысл, «революционен» в силу самого этого факта. Понятно ведь, что текст может подрывать смысл и во имя правого иррационализма, как и вообще ни во имя чего. Доводы Кристевой опасно формалистичны и попросту карикатурны: разрушит ли чтение Малларме буржуазное государство? Она, конечно, не утверждает, что так оно и будет, но уделяет слишком мало внимания политическому содержанию текста, историческим условиям, в которых происходит опрокидывание означаемого, условиям, в которых всё это интерпретируется и используется. Демонтаж цельного субъекта не есть сам по себе революционный жест. Кристева верно осознаёт, что буржуазный индивидуализм процветает благодаря этому фетишу, но её теория запинается там, где субъект расщеплён и пребывает в противоречии. Для Брехта, наоборот, снятие данных нам идентичностей через искусство неотделимо от практики производства нового типа человеческого субъекта, который будет знать не только внутренний распад, но и социальную солидарность, который будет не только испытывать удовольствия либидинального языка, но и бороться против политической несправедливости. Имплицитный анархизм или либертарианство примечательных теорий Кристевой – не единственная разновидность политики, следующей из её признания, что женщины и определённые «революционные» произведения литературы радикально ставят под вопрос существующее общество, потому что они отмечают рубеж, за который оно не отважится зайти.
Между психоанализом и литературой существует простая и наглядная связь, которую стоит рассмотреть в заключение. Верно это или нет, фрейдистская теория считает фундаментальной мотивацией всего человеческого поведения избегание боли и получение наслаждения: в философии это известно как гедонизм. Причина, по которой подавляющее большинство людей читает стихи, романы и пьесы, состоит в том, что они находят это приятным. Не стоит и говорить, что в университетах на это едва обращают внимание. Общепризнанно, что в большинстве университетов сложно, потратив несколько лет на обучение литературе, всё ещё считать её источником удовольствия: многие университетские курсы построены так, чтобы не дать этому случиться, – и тот, кто всё же остаётся в состоянии получать наслаждение от чтения, может считаться или героем, или упрямцем. Как мы уже убедились ранее, то, что литература является в целом приятным занятием, создавало серьёзную проблему для тех, кто впервые наделил её статусом академической «дисциплины»: казалось необходимым сделать занятия более пугающими и скучными, чтобы «английская словесность» могла быть достойна репутации уважаемого родственника классической филологии. Однако в мире за университетскими стенами люди жадно поглощают любовные, детективные, исторические романы без всякой мысли о том, что академическая среда подобным обеспокоена.
Симптомом этой курьёзной ситуации является следующее: слово «удовольствие» содержит намёк на пошлость, и, само собой, оно менее серьёзно, чем слово «серьёзность». То, что мы находим стихи чрезвычайно приятными, кажется менее подобающим критическим замечанием, чем утверждение, что они имеют большую моральную глубину. Ведь сложно не почувствовать: комедия поверхностнее трагедии. Между пуританами из Кембриджа, которые сурово высказываются о «моральной серьёзности», и аристократами из Оксфорда, которые находят Джордж Элиот[148] «забавной», едва ли найдётся место для более адекватной теории удовольствия. Но психоанализ, помимо прочего, ощетинившись интеллектуальным оружием, выполняет и такую роль: он изучает вещи фундаментальные, а именно – что люди находят приятным, а что нет, как они могут облегчить свои страдания и сделаться счастливее? Коль скоро фрейдизм – наука, занимающаяся беспристрастным анализом психических сил, это и учение, преданное идее освобождения человека от того, что не даёт ему получать удовлетворение и хорошо себя чувствовать. Это теория на службе у социальных перемен, и в этом смысле она имеет параллели с радикальной политикой. Она осознаёт, что удовольствие и неудовлетворённость суть крайне сложные проблемы, – в отличие от традиционной литературной критики, считающей личную склонность или неприязнь просто делом «вкуса», который невозможно более анализировать. Для традиционной критики утверждение, что стихи приносят удовольствие, будет последней точкой в споре, для критики другого рода с этого утверждения спор лишь начинается.
Я вовсе не утверждаю, что только психоанализ может дать ключ к решению проблем литературной ценности и наслаждения. Конкретные фрагменты языка нравятся нам или не нравятся не только благодаря тому, что на нас воздействует бессознательная игра влечений, но и благодаря осознанным убеждениям и пристрастиям, которые мы разделяем. Меж этими двумя областями сложные взаимоотношения, которые необходимо показать в детальном исследовании отдельного литературного текста[149]. Проблема литературной ценности и наслаждения лежит в некой точке соединения психоанализа, лингвистики и идеологии, и до сих пор в этой сфере сделано слишком мало. Однако мы знаем достаточно, чтобы подозревать, что можно гораздо более чётко, чем полагает традиционная критика, объяснить, почему кто-то получает удовольствие от определённых словесных композиций.