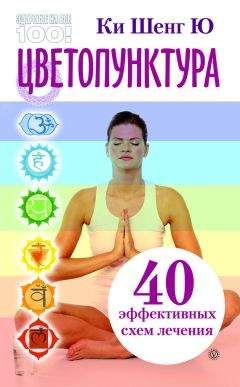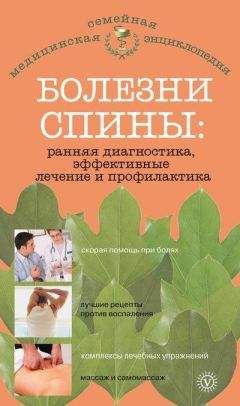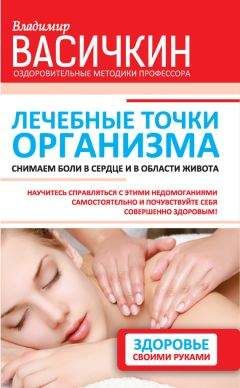Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Однако в «Былом и думах» изображаемому присуще особое качество, определяющее методологию произведения. Это качество – подлинность, ибо в «Былом и думах» Герцен, подобно историку, изображает действительно бывшее. Читатель «Былого и дум» одновременно подвергается воздействию двух могущественных сил – жизненной подлинности и художественной выразительности.
«Былое и думы» по своему жанру не роман. И конечно, не потому, что это произведение недостаточно художественное, но в силу иного познавательного принципа, иного соотношения между действительностью и ее творческим преломлением. В «Введении» к этой книге шла уже речь об этой познавательной специфике документальных жанров.
Принципиальным образом «Былое и думы» отличаются и от художественных произведений, построенных на материале действительных событий. Фактичность, документальность романа, повести – это момент обычно внеэстетический (за исключением исторического романа). Читатель может знать и может не знать, например, о происхождении изображаемого из личного опыта автора. Это обстоятельство существенно для психологии творчества писателя, для данного же произведения важно не происхождение факта, но дальнейшая его функция в определенном художественном единстве. При «генетическом» подходе к подобным вопросам стирается разница между «Былым и думами» и, скажем, произведениями Толстого. Толстой воспроизводил действительные события не только в общих чертах, но нередко в конкретнейших мелочах и подробностях; Герцен же в «Былом и думах» вовсе не отличается особой фактической точностью. И все же «Анна Каренина» – несомненно роман, а «Былое и думы» – не роман, но, по определению Герцена, «отражение истории в человеке» (X, 9).
В «Былом и думах» невымышленность изображаемого – момент не случайный, а необходимый, обязательный для читателя, то есть для правильного чтения. Можно полноценно воспринимать «Анну Каренину», не имея, скажем, понятия о том, что сцена объяснения Левина с Кити автобиографична, что Толстой, объясняясь с Софьей Андреевной Берс, писал первые буквы слов мелом на ломберном столе[165]. Между тем для понимания, для восприятия «Былого и дум» вовсе не безразлично, если бы вдруг оказалось, что Герцен на самом деле не увозил свою невесту, не приезжал за ней тайком из Владимира и проч. Существует, впрочем, разновидность романа, для которой важен вопрос о фактической достоверности изображаемого, – это исторический роман (он может иногда создаваться на материале современном или почти современном писателю). Исторический роман, однако, открыт доступу художественного вымысла, открыт широко и, главное, принципиально. Недаром в центре исторического романа XIX века обычно стояли вымышленные персонажи, методологически не отличавшиеся от действующих лиц любого другого романа.
В «Былом и думах» с установкой на подлинность связаны два момента, в конечном счете определяющие художественную систему произведения: ведущее значение теоретической, обобщающей мысли и изображение действительности, не опосредствованное миром, созданным художником. В романе, в повести художник, созидая отраженную, «вторую действительность», раскрывает в ней и через нее свое понимание действительности реальной. «Былому и думам» присущ огромный эпический размах повествования, но в этом произведении между объективным миром и авторским сознанием нет средостения фабулы. Вместо «второй действительности», со спрятанным в ее недрах автором, – прямой разговор о жизни, авторские суждения, открыто и непосредственно направленные на жизненный материал.
Разумеется, роман XIX века вовсе не чуждался прямого высказывания (достаточно напомнить «Войну и мир», где размышления автора занимают целые главы). Все же это явление другого порядка. В классическом социально-психологическом романе теоретические размышления автора – это отступления; авторский анализ сопровождает образное воссоздание действительности. Иначе в документальных жанрах. В «Былом и думах» аналитическая мысль становится живой тканью художественного произведения, средой, в которой живет весь охваченный им жизненный материал. В литературном произведении теоретический элемент может, конечно, явиться инородным телом, иногда даже обличающим художественное бессилие писателя. Но теоретический элемент, перерабатываясь в художественном единстве произведения Герцена, приобретает особое эстетическое качество. Мысль его – не научный силлогизм, ценный только конечным результатом, выводом. У Герцена важен и самый процесс протекания мысли, самая ткань смысловых сочетаний, уникальных ассоциаций, закрепляющих заново увиденный ракурс действительности. В «Былом и думах» думы обладают эстетическим качеством не в меньшей мере, чем сцены, диалоги или портретные зарисовки.
Герцен непрерывно поддерживает в читателе сознание подлинности изображаемого. Но подлинная действительность в «Былом и думах» – в то же время действительность, целеустремленно организованная и в самых общих своих очертаниях, и в конкретных подробностях. Герцен исследует ее в определенном аспекте, осмысляя все, в чем отражены интересующие его общие закономерности. Из бесконечного множества жизненных фактов он отбирал то, что могло с наибольшей силой выразить философский, исторический, нравственный смысл действительно бывшего. Так, в «Былом и думах» рождается художественная символика.
Конкретным подробностям «Былого и дум» особое качество придает уверенность читателя в том, что они не вымысел. В то же время структурная организованность настолько важна для Герцена, что дает ему право свободной творческой переработки фактического материала. Герцен не только изображает сцены, создает диалоги, при которых не мог присутствовать, но и подлинные документы (письма, дневники), вводимые в текст «Былого и дум», он обрабатывает, монтирует, редактирует стилистически; он нередко дает событиям прошлого новую оценку, иную эмоциональную окраску; иногда, когда ему нужно, отклоняется от точной передачи фактов. Вот почему «Былое и думы», являясь важнейшим памятником истории русского общественного сознания, так же как истории общеевропейского освободительного движения, не являются в то же время документальным первоисточником в узком смысле слова. Некритически, без тщательной проверки, пользоваться этой книгой как фактическим материалом неправильно. Но целеустремленно перестраивая действительность, Герцен вместе с тем ни на мгновение от нее не отрывается. Он может переработать документ, но документ ему нужен, – в его системе писатель не выбирает по произволу между фактом и вымыслом.
Герцен пристально следил за современной ему историографией, особенно за теми представителями новой исторической школы, которые стремились совместить научное исследование с художественным воспроизведением прошлого. Герцен высоко ценил Тьерри, Карлейля, Мишле. По поводу книги Ж. Мишле «История Франции в шестнадцатом веке. Возрождение» Герцен писал ее автору: «Это поэма, это история, превратившаяся в искусство, в философию» (XXV, 241) – формулировка для самого Герцена программная. «Возрождение» Мишле появилось в 1855 году, когда Герцен создал уже первую редакцию пяти частей «Былого и дум». И Герцен воспринимает художественный историзм Мишле столь заинтересованно именно как созвучный его собственному творческому опыту, только что осуществленному.
В своей книге «Французская романтическая историография» Б. Реизов, характеризуя метод французских историков 1810–1820-х годов, говорит о присущем Мишле мастерстве «двупланного изображения»: «Все умственное развитие Мишле, как и тенденции современной ему науки и литературы, толкали его к методу, который с некоторой приблизительностью можно было бы назвать „символическим“». Так определял свой метод и сам Мишле в письме к Шарлю Маньену: «Школа живописная (и материалистическая; Барант и т. д.) обратила внимание на форму; школа аналитическая (Минье и др.) хотела уловить дух. Переводчику Вико (то есть Мишле. – Л. Г.) оставалось начать школу символическую, которая пытается показать идею под прозрачной формой»[166].
Целеустремленный отбор изображаемого, организация действительных событий в структурное единство, построение характеров, индивидуальных и в то же время исторически обобщенных, историческая символика выразительных деталей – все это сближает Герцена, автора «Былого и дум», с его старшими современниками, представителями новой исторической школы.
Разумеется, сопоставлять «Былое и думы» с трудами историков можно лишь в плане некоторых общих тенденций. Действительность в этой книге взята в другом разрезе, иной человеческий опыт является ее материалом. Герцен сам очень точно говорит об этом в предисловии 1866 года к пятой части «Былого и дум»: «„Былое и думы“ – не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Эта формула определяет «Былое и думы» как своеобразное сочетание истории с автобиографией, с мемуарами. Но она и отграничивает «Былое и думы» от мемуаров, если жанровую специфику этого произведения рассматривать как особую форму «отражения истории». Едва ли существует еще мемуарное произведение, столь проникнутое сознательным историзмом, организованное концепцией столкновения и борьбы исторических формаций, концепцией, вынесенной Герценом из школы русского гегельянства 1840-х годов и переработанной его революционной диалектикой. Связное и законченное свое выражение историческая концепция Герцена нашла в первых пяти частях «Былого и дум».