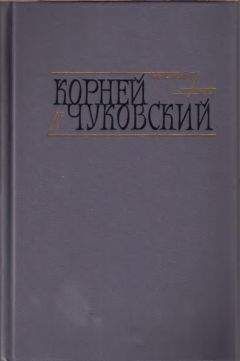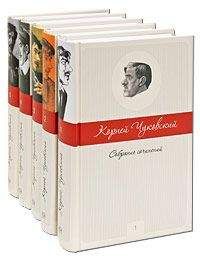Корней Чуковский - Высокое искусство
Свифт: «…будя неповоротливую тупость, обуздывая нахальство…»
Шишмарева: «…и таким образом приводя все дела к возможно скорому концу» (стр. 255).
Свифт: «…школа политических прожектеров мне, признаюсь, не понравилась».
Шишмарева: «…на мой взгляд, она отличается совершенным отсутствием здравого смысла» (стр. 252).
Все это приводит к тому, что писатель монументального стиля начинает суетиться, жестикулировать, неврастенически дергаться, то есть опять-таки утрачивает основные черты своей личности.
В прежнее время причиной такого многословия зачастую бывали, конечно, рубли. Получив от издателя заказ, переводчик старался удлинить чуть не вдвое каждую строку переводимого текста, чтобы вышло возможно больше страниц и сумма гонорара возросла бы. Типичным образцом такого перевода, который я назвал бы «коммерческим», может служить известный роман «Принц и нищий» Марка Твена, переведенный Львом Уманцем для московского издателя Сытина. Переводчик поставил себе откровенную цель: из каждой строки сделать две, а при возможности – три. И это ему вполне удалось. Стоит кому-нибудь в подлиннике крикнуть:
«Да здравствует король Эдуард!» – в переводе он будет кричать без конца:
«Да здравствует новый король! Да здравствует наш любимый монарх! Да здравствует Эдуард, король Англии! Да здравствует на многие лета!»
Хорошо, что в русском языке так много всевозможных синонимов. Эти барышники собирали с них немалую дань. А когда у них иссякали синонимы, они тотчас находили другие ресурсы, которые были, пожалуй, доходнее всех тавтологий. Я говорю о пояснительных фразах, многословно комментировавших то, что не требовало никаких комментариев.
В подлиннике, например, Марк Твен говорит:
«…держал за руку принца, нет, короля…»
А у Льва Уманца в переводе читаем:
«…держал за руку принца, или, вернее сказать, короля, так как теперь маленький Эдуард был уже королем по смерти Генриха VIII»[244].
Читателю и без того все понятно, но нужно же переводчику выжать наибольшее количество строк! Этот перевод паразитический. Он разъедал всю ткань переводимого текста, высасывал из него все соки и сам разбухал безобразным наростом.
В «Принце и нищем» есть забавное упоминание о том, что у Тома Кенти во время обеда в королевском дворце сильно чешется нос, и он, не зная, каков должен быть в данном случае придворный этикет, скребет его рукой.
Но паразитирующему переводчику этого мало, и он присочиняет такую концовку:
«…Схватив салфетку, он [Том Кенти] преспокойно поднес ее к носу и высморкался» (!!)[245].
Высморкался в салфетку – такая лейкинщина совершенно чужда Марку Твену, но зато она дала переводчику несколько добавочных строк.
В дореволюционное время в наиболее безответственных кругах переводчиков этот метод процветал необычайно.
Например, «Приключения Тома Сойера» (того же Марка Твена) в роскошном издании А.С. Суворина разбухли от переводческих отсебятин на целую треть.
Марк Твен, например, говорит:
«Достали пачки свечей…»
Переводчик:
«Вытащили из корзинки пачку свечей, нарочно припасенных догадливой миссис Тачер».
Марк Твен:
«Утром в пятницу Том услыхал…»
Переводчик:
«Хотя и говорят, что пятница тяжелый день, но в это утро Тома ожидала приятная новость» (272, 275).
Вот такими лишними словами переводчик, как липкой смолой, обволакивал всякую фразу, совершенно заглушая голос автора.
В советской литературе этих барышников слова уже не имеется, и я упоминаю о них лишь в историческом плане.
V
Мне уже случалось говорить на предыдущих страницах о высоком качестве нового тридцатитомного издания Диккенса, осуществленного Гослитиздатом в 1957–1963 годах при ближайшем участии таких блистательных переводчиков, как М. Лорие, Н. Дарузес, С. Бобров, М. Богословская, Т. Литвинова и другие. Издание отличается строгой научностью. Переводчиками досконально изучены детали английского быта тех исторических эпох, которые изображаются Диккенсом, и вообще за каждым словом перевода вы чувствуете основательные научные знания. Это чувство еще более усиливается, когда в конце каждого тома вы читаете авторитетные комментарии А. Аникста, Д. Шестакова, Н. Дезен и других.
Чтобы читателям стало понятно, каков характер того роста, который происходит на наших глазах в этой области, я считаю нелишним напомнить о тех переводах Диккенса, которые на исходе двадцатых годов были обнародованы тем же издательством. В качестве редактора лучших романов Диккенса выступил известный в те времена журналист Иван Жилкин.
Я беру одну из этих книг и читаю:
«Желаю вам как можно чаще (!) возвращаться (!) с того света (!)» (Д., 398)[246].
С того света? Как можно чаще? Я смотрю в английский текст и вижу, что у Диккенса сказано:
«Желаю здравствовать многие лета!»
Переводчик не понял английского приветствия many happy returns и придумал от себя небывальщицу, а Жилкин сохранил этот вздор.
Переворачиваю страницу, читаю:
«Выгоняли из трубы беса» (450).
Сравниваю с английским текстом и вижу, что у Диккенса сказано:
«Беседовала с невидимым родственником».
Беру другую книгу и читаю:
«Эта несчастливая женщина… ей нельзя глаз показать ни на улице, ни в церкви».
Снова сравниваю с английским текстом и вижу, что у Диккенса сказано:
«Могилы на кладбище не содержат червей, которых люди гнушались бы более».
Переводчик смешал женщину с могильным червем, а кладбище с церковью, так как у англичан эти слова имеют отдаленное сходство (wurem и woman, churchyard и church; wurem – worm – «простонародная» форма).
У Диккенса: «дернул за нос»; у Жилкина: «толкнул наотмашь» (304).
У Диккенса: «после обеда»; у Жилкина: «утром» (447).
У Диккенса: «на полях своих книжек»; у Жилкина: «на стенах» (Д., 449).
Переводчик иногда до того распоясывается, что придает фразам Диккенса прямо противоположный им смысл. У Диккенса, например, сказано: «короткие руки»; он переводит: «длинные руки» (Д., 69).
Диккенс пишет: «дни»; он переводит: «ночи» (417).
У Диккенса: «есть надежда»; он переводит: «надежды нет» (Д., 279).
У Диккенса: «без всякого неудовольствия»; он переводит: «с явным неудовольствием» (285).
У Диккенса: «люди, шатаясь, идут под тяжелой ношей»; он переводит: «люди отдыхают группами» (450).
Впрочем, с Жилкина взятки гладки.
Но самого пристального изучения заслуживает тот переводчик, которого он «редактировал» с таким откровенным цинизмом. У переводчика было знаменитое имя – Иринарх Введенский. В середине XIX века он считался лучшим переводчиком. Русские читатели в течение долгого времени знали Диккенса главным образом «по Иринарху Введенскому». И, конечно, никто не станет отрицать у него наличие большого таланта, но это был такой неряшливый и разнузданный (в художественном отношении) талант, что многие страницы его переводов – сплошное издевательство над Диккенсом. Не верится, что такая (почти кулачная) расправа с английским писателем была без всякого протеста допущена русским образованным обществом.
У Диккенса, например, говорится:
«Самые черные дни слишком хороши для такой ведьмы».
Иринарх Введенский переводит:
«А что касается до водяной сволочи, то она, как известно, кишмя кишит в перувианских рудниках, куда и следует обращаться за ней на первом корабле с бомбазиновым флагом».
Переводчик сочинил от себя всю эту затейливую фразу и великодушно подарил ее автору.
Впрочем, автором он склонен считать скорее себя, чем Диккенса. Иначе он не сочинял бы целых страниц отсебятины, которая в течение семидесяти лет считалась у нас сочинением Диккенса.
На стр. 190 девятого тома Собрания сочинений Ч. Диккенса (издательство «Просвещение») мы читаем, например, такую тираду: «Торговый дом, который приобрел громкую и прочную славу на всех островах и континентах Европы, Америки и Азии… Мой истинный друг, почтенный Робинзон, надеюсь, ничего не имеет против этих истин, ясных, как день, для всякого рассудительного джентльмена, обогащенного удовлетворительным запасом опытности в делах света».
В этой тираде нет ни единого слова, которое принадлежало бы Диккенсу. Всю ее с начала до конца сочинил Иринарх Введенский, потому что ни «Домби и сын», ни «Копперфильд», ни «Пиквик» никаких вариантов не имеют и позднейшим переделкам со стороны автора не подвергались.
В пылу полемики с журналом «Современник» Иринарх Введенский сам заявил о своем переводе «Домби и сына»: «В этом изящном переводе есть целые страницы, принадлежащие исключительно моему перу[247]».