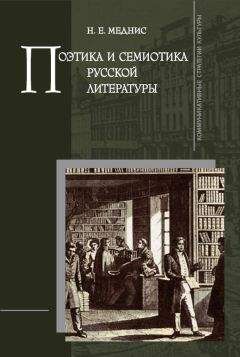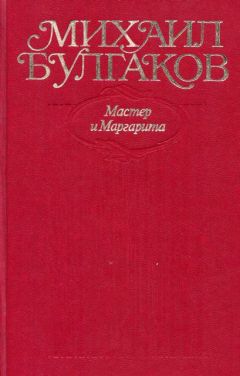Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
А вот Воланд и его «шайка» именно сводят счеты с людьми.
Маргарита была отравлена Воландом вместе с ее возлюбленным мастером, автором романа об Иешуа и Пилате. Вот как объясняет убийца убитому смысл этого убийства: «Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит» (ММ-2. С. 802). Этот, исполненный ложного пафоса, афоризм Воланда, – еще одно оправдание насильственной смерти. Логика «сведения счетов» такова: если любишь – значит, будь готов умереть вместе с тем, кого любишь. У усатого «Воланда» каждый божий день и каждая ночь были временем «великих балов» и «сведения счетов», смысл которых состоял именно в том, чтобы тот, кто любил, разделил бы участь того, кого он любил. Помните о лагерях для жен врагов народа, и детских домах для детей врагов народа, где те, кто любили, были приговорены разделить участь тех, кого они любили? Вслушайтесь еще и еще раз в эту размеренную, раздумчивую, имитирующую «мудрость» фразу с сильным грузинским акцентом: «Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». И заметим: «должен разделять», то есть в обязательном и принудительном порядке.
Глава двенадцатая
Факт и истина, документ и фальсификация
1. Волшебная сказка или «правдивый рассказ»?
Размышляя над текстом булгаковского романа, мы то и дело приходим к выводу, что в романе мы не можем найти однозначные ответы на конкретные вопросы о реальных событиях московского нарратива.
Так, например, невозможно ответить на вопрос о времени и месте смерти Берлиоза, мастера и Маргариты, а такие ключевые «адреса», по которым развивается сказочное действие в художественном пространстве романа, как клиника Стравинского, театр Варьете, «нехорошая квартира», имеют ярко выраженную двойственную метафорическую природу.
Вся повествовательная ткань о судьбах современных Булгакову персонажей – в зияющих дырах, причем устранить эти погрешности своего рассказа писатель принципиально не в состоянии. И все-таки его «правдивый рассказ» действительно правдив. И правда заключается в том, что иначе указать на исчезающую реальность невозможно.
В искусстве повествовательных жанров есть две возможности для имитации или моделирования документальной точности в обрисовке и передаче событий, которые заявляются автором как действительно произошедшие.
Первый способ – вести повествование от имени добросовестного наблюдателя-хроникера, который точно регистрирует происходящее на его глазах событие, причем этим наблюдателем очень часто является сам автор. К этой имитации непосредственного наблюдения прибегает Гоголь. Можно вспомнить, как он сам гениально обозначил свой метод при создании портрета Манилова: «…и вообще тут придется далеко углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд». Этим «изощренным в науке выпытывания взглядом» в высшей степени обладал Булгаков, но, имея дело с советской реальностью, этот особый взгляд, даже «далеко углубленный», не видел ничего, проваливался в черный колодец без дна.
Второй способ – это предоставление слова самим участникам события, а также свидетелям и очевидцам, которые по своей собственной доброй воле хотят рассказать историю, чтобы мир ее узнал из первых рук, то есть мотивация подобного рассказа – желание сохранить и засвидетельствовать правду. Мы условно подобный метод называем белкинским, в честь Ивана Петровича Белкина, автора «Повестей», записавшего невымышленные истории, услышанные им от свидетелей, участников и очевидцев.[80]
Булгаков косвенно показывает, что белкинский способ неприменим, потому что бесполезно интервьюировать участников фантастических событий о том, что же с ними в действительности происходило. После того, как они побывали на допросах в «известном учреждении» и подписали протоколы этих допросов, а может быть, и обязательство о неразглашении тайны следствия, они навсегда онемели или превратились в «не отбрасывающего тени Варенуху», чей рассказ Римскому о Степе Лиходееве – это «вранье от первого до последнего слова».
Это означает, что свободный рассказ ни участника, ни очевидца не может быть источником правды в эпоху Булгакова, потому что он вообще невозможен, как невозможна и гоголевская позиция внешнего наблюдателя, цепким взглядом художника «выпытывающего» и создающего достоверный портрет действительности.
Достаточно просто взглянуть на людей, попавших в руки квалифицированных «кадров» из «известного учреждения». «Их напугали эти негодяи», – глумливо и лицемерно оценит работу своих коллег «один из лучших следователей Москвы». «Его хорошо отделали», – сдержанно похвалит работу своих карательных спецслужб сам хозяин. Мастер, Бенгальский, Степа Лиходеев, Римский, Варенуха, Семплеяров, Босой, Николай Иванович и др. – все они жертвы темного трансцендентного сюжета о провале сквозь землю прямо в преисподнюю Лубянки. Все они, если говорить на научном медицинском языке, пережили шок и продолжают жить с непоправимо травмированной психикой. Эта психическая травма неизживаема, ее невозможно осознать и осмыслить, опыт, полученный в преисподней, нельзя высказать, облечь в слово. Тайна преисподней надежно запечатана немотой там побывавших.
Примечание: Современница Булгакова, Лидия Корнеевна Чуковская – писатель, принадлежащий к традиции классического реализма, свидетельствует: «Реальность моему описанию не поддавалась». Еще она отмечает, что в ее записях эпохи террора «воспроизводятся полностью одни только сны». «Полностью», то есть последовательно, связно, без разрывов. Лидии Чуковской, не просто классическому реалисту, а реалисту с пафосом документальности, в ее стремлении к точности и правде удалось то, что дается только таланту художника-мета-физика – выразить фантастику человеческого существования в свою эпоху. С ясновидением Кассандры она увидела невидимое, дала этому невидимому имя «застенок», превратила понятие в образ, наделив его одушевленностью, особенной абсурдной телеологичностью и жаждой власти. И этот метафизический «образ» – великая художественная удача, прорыв в понимании эпохи, которую реалистично описать было невозможно. Можно было только «угадать». Вот он, этот образ: «Застенок, поглотивший материально целые кварталы города, а духовно – наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивавший собственную ремесленно-сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни, – мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз или, точнее, ушей. Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было…»[81].
Это фантастическое существо – «застенок» – невидимое чудовище, демон-великан с огромной ненасытной пастью, «поглотивший» всю жизнь ее современников, именно потому не поддается описанию и наблюдению, что вся жизнь находится внутри его утробы. Парадокс существования в «застенке», «окруженном немотой», в «застенке», который – власть и сила ровно до тех пор, пока чье-нибудь «слово» не лишит его «всемогущего небытия», обозначен Чуковской необыкновенно ярко, пронзительно точно. Булгаков эту нерешаемую задачу – «описать реальность застенка» – гениально решил: ему удалось поймать в фокус и отразить это как бы несуществующее и одновременно всемогущее нечто.
Способ задокументировать эпохальный сюжет, став наблюдате-лем-хроникером, невозможен, в силу специфики объекта наблюдения. Чтобы вести репортаж из бездны, нужно туда провалиться, но в преисподней нет места для объективного наблюдателя: там можно пребывать либо в качестве жертвы, либо в качестве палача.
Из самой специфики устройства жизни при тоталитарном режиме следует, что миметическое искусство, условно называемое реализмом, в принципе в эпоху Булгакова было невозможно. Все дело было в том, что реальность отсутствовала, она исчезла, но не из непосредственного восприятия, а из сознания живущих как феномен «картины мира». Образ реальности, или картина мира, оказался разрушен вместе с механизмами фиксации и регистрации реальности. В сознании людей зияли огромные черные дыры, о которых не только говорить, но и думать было нельзя. Реальность – это то, что здравый смысл человека обозначает фразеологизмом «на самом деле». Но именно неразрешимой проблемой стала загадка того, что же на самом деле происходит, и притом не где-то далеко, а именно в непосредственной близости от самого себя.