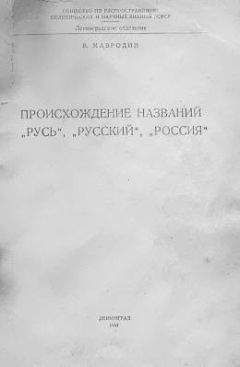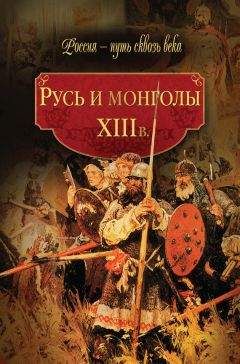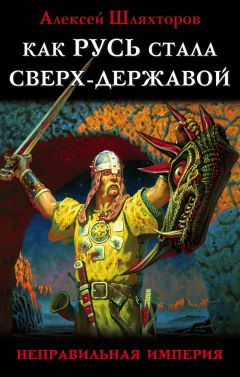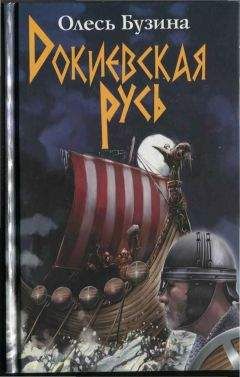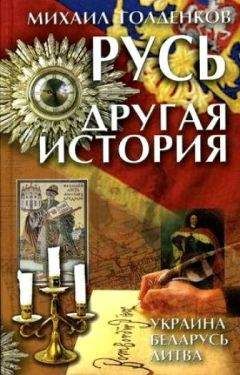Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Под стать этому сказочному краю и его обитатели: мужчина и женщина, двое – «мы». Неподвластные земному притяжению, не ведающие границ времени и пространства, пренебрегшие причинностью и необходимостью, они наделены восхитительной легкостью птиц, столь стремительных в своем полете, что возникает впечатление, будто это какие-то дневные светляки – «птицы-брильянты», «орлы из чистейшей воды» и у них «никогда не было тени». Любимая похожа на «воздушного водолаза в легчайшем оперении», и, когда она несет своего спутника «на крыльях глаз», он верует: «больше нет ничего, кроме их полета, стряхивающего прах моих невзгод, кроме их звездного и светозарного полета». Оба они, он и она, делаются средоточием жизни в этой чудесной вселенной. Элюар обнаруживает источник жизнетворного тепла в себе самом: «дремлет стоя во мне огонь», чаще – в подруге, чье «лицо – обнаженное солнце», чьи «зрачки – башни света», чьи «руки в зарослях трав рождают день». «И вижу я, как в ладонях ее загорается свет, и они взмывают ввысь, словно языки пламени после дождя. Пламя пальцев тянется навстречу небесному пламени». Происходит встреча любимой и солнца, огня души и огня миро здания. И человек, благодаря своей любви обручившийся с самим солнцем, отныне и навсегда постигает, что он не жалкая пылинка, не червь в норе своего одиночества, а богоравный собрат светоносного источника всей природной жизни.
Впрочем, доподлинное ли знание приносит та гипотеза всемогущества, какой выступает вскормленная любовью греза? Не примешана ли здесь изрядная доля самообольщения? И не отсюда ли проистекает навязчивое желание Элюара на самых вершинах радости погрузиться в сладкую дрему, забыться: «Любовь прекрасней, чем мир, где я живу, и я закрываю глаза»? Ласки любимой, баюкая, сплошь и рядом походят на соломинку, о даровании которой молит утопающий: «Еще поцелуй, один-единственный, чтоб больше не думать о пустыне». Значит, пустыня все же продолжает обступать со всех сторон, значит, сколько бы фантазия ни превращала ее в цветущий сад, дыхание раскаленных песков не перестает о себе напоминать? Элюар далек от того, чтобы не замечать: он лишь «воображает свое всевластие».
Само по себе это немало: мечты Элюара – пророчества возможного счастья подчинить жизнь человеческим запросам, а не побудители к отчаянному бегству «куда угодно, лишь бы прочь из этого мира» (Бодлер). Но это еще и не так много: действительность волшебством не переделаешь. Преобразованная с помощью озарений «бодрствующего сновидца», жизнь шла себе все тем же постылым чередом. Она по-прежнему протекала в «домах пустынных, отвратительных, домах жалких, как полые книги». По-прежнему в ней на каждом шагу подстерегала разобщенность: «Словно поникшее знамя, влачу я свой лоб по холодным улицам черной пустой комнаты, крича о моей нищете». И вскоре после того, как Элюар вроде бы покончил с замкнутостью одиночки, он внезапно ронял: «Одиночество преследует меня по пятам своей злобой». Или вдруг меркли залитые солнцем видения, среди прозрачного полудня вырисовывались гнусные подробности повседневья: «жирные пятна на потолке, стекла измызганы плевками, и свет ужасен». Как бы часто ни окрыляло чувство восхитительной несвязанности, победы надо всем сковывающим и налитым тяжестью, едва ли не так же часто горло сжимала тоска: «Бодрствуя, я зачастую испытывал ощущение изоляции, страха, страданий, агонии». Промозглый холод прокрадывался в сердце, превращал в жуткие гримасы зимы недавние по-весеннему безмятежные улыбки природы:
Зима вся в голых ветвях и застывшая точно покойник
Человек на скамейке на улице человек от толпы убежавший
И одиночеством переполненный
Дайте место отчаянью самому заурядному
Зеркалам свинцовым отчаянья
Струям булыжным отчаянья
Монументам гниющим отчаянья
Дайте место забвенью добра
Дайте место воспоминаниям о жалких отрепьях истины
Черному свету пожару вчерашнему…
Под серебристо-прозрачной гладью, усыпанной опрокинутыми в воду звездами, в лирике Элюара течет иной, встречный поток видений – сумрачных, кошмарных, залитых апокалипсическими «черными лучами». Глубинные струи время от времени вырываются наружу, и тогда вместо алмазных россыпей утыкаешься в кучи мусора и груды булыжника, вместо горных озер – в гниющие мутные болота, вместо зеленых полян – в заброшенные пустыри. Живое пламя оставляет потухший пепел, замки из бирюзы затопляет вяз кое месиво, уродливые тени ложатся на всю округу. Смятение липкой паутиной обволакивает мозг: «Единственное изобретение человека – могила». Элюаровская хвала обретенному счастью, при всей ее видимой безоговорочности, обременена изнутри сомнениями в том, что оно долговечно, способно не рухнуть под ударами несчастья, которое при таилось где-то за ближайшим углом и ждет своего часа. Обращенная одним своим ликом к празднику, лирика Элюара другим ликом повернута к трагедии жизни. Одно оттеняет – и обостряет – другое: трагедия подлинна, когда она отлучение от праздника, праздник черпает свое веселье в преодолении беды.
Но коль скоро победы Элюара надо всем косным во многом мнимы, а догадки об этом не покидают его и в разгар блаженства, учиненный в мечтах пир на весь мир грозит подчас обернуться пиром посреди чумы. В брызжущем беззаботностью смехе нет-нет да и проскальзывает тревога. Колебания между надеждой и беспокойством, между грезой и жуткими наваждениями придают порой песням Элюара во славу нежности как источника «торжества над судьбой» оттенок какого-то заговора от недобрых духов, могущих уже в следующую минуту похитить радость, с таким трудом добытую. Корни подобных опасений как раз там же, где и предпосылки головокружительно легкого причащения даров свободы – в подмене достигнутого желаемым. Манящие лозунги душеспасения через сны наяву ободряли, окрыляли, но по-своему и были чреваты подвохами. Оттого-то вслед за взлетами духа, разорвавшего очередную из своих пут, наступал упадок сил – ведь пут оставалось еще слишком много, и очень крепких. Оттого-то за возгласом вперед смотрящего, который завидел вдалеке полоску спасительного берега: «Слушайте, я говорю от имени тех немногих, что молчат, от имени лучших!» – следовало горькое признание: «Их была всего горстка на свете, каждый знал, что он одинок. Они пели, и были правы, что пели. Но они пели украдкой, пели так, как идут на смерть».
Но если Элюару случалось впадать в уныние, обнаружив, что край обетованный его прометеевской грезы, увы, опять далеко за горами и лесами, он никогда, однако, не отрекался от надежды сделать ее былью. И не уставал искать в этом направлении.
Навстречу большому зову
Выпуская в 1951 г. книгу «Может ли кружка для воды быть прекраснее самой воды», куда он почти полностью поместил свои стихи с 1930‑го по 1938‑й год, сам Элюар без недомолвок сказал о существе перемен, произошедших тогда в его лирике: «Здесь содержится все, что написано Полем Элюаром за восемь лет, которые привели его к более ясному и вместе с тем более драматичному представлению о действительном мире».
Прологом к этому проникновению поэзии в драму жизни было постепенное осознание драмы самой поэзии, однажды повергнутой в смятение тем, что она, всемогущая мечтательница, слишком немощна, чтобы стать вровень с запроса ми дня, с запросами своего века. Ценители изящной словесности, открыв в 1932 г. элюаровскую книгу «Сама жизнь», были, надо думать, немало озадачены, когда после изыскан ной доверительной ворожбы:
Прощай печаль
Здравствуй печаль
Ты вписана в линии потолка
Ты вписана в глаза которые я люблю…
Прекрасная ликом печаль, –
вдруг наталкивались на вызывающе-надрывную «Критику поэзии» под самый конец этой книги задумчивой грусти и робкого пробуждения к радости.
Разумеется я ненавижу царство буржуев
Царство шпиков и попов
Но сильнее стократ я ненавижу людей, которые не ненавидят его
Так же как я
Всей душой
Я плюю в лицо ничтожнейшему пигмею
Который всем стихам моим не предпочтет эту Критику поэзии.
Поначалу этот яростный плевок в лицо «хозяевам жизни», их охранникам и духовным пастырям склонны были зачислить в разряд тех привычных поношений, которыми со времен романтиков охотно тешили себя бунтари от анархической богемы. Первые строки у Элюара и впрямь напоминали подобные издевательские выпады против мещан, зачастую переходившие просто в брань, чтобы тупого и подловатого обывателя «разделать под орех». Однако откуда же тогда у этого очередного проклятия неожиданный заголовок: «Критика поэзии»? При чем тут стихи, да еще и собственные? Неужели это всего только дразнящий бузотерский парадокс?