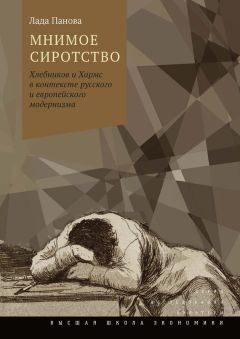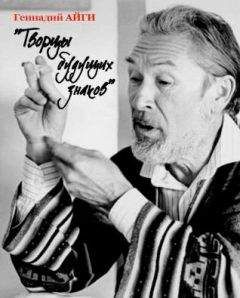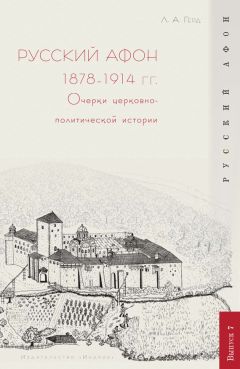Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Именно уподобление чевенгурской «новой церкви» «телу Христову», как нам думается, объясняет особую притягательность для Платонова романа Сервантеса, образная система которого также построена вокруг «утаенного» в глубине текста эразмистского концепта «мистическое тело Христово»: последнее фигурирует на страницах «Дон Кихота» и как гротескное тело толпы на карнавальной площади15, и как «тело» Ордена Странствующего Рыцарства, метонимически представленное «телом» донкихотовской пары, в котором Дон Кихот – «голова», а Санчо – «туловище»16. Отсюда – особая роль в «Дон Кихоте» граалевской и – шире – евхаристической топики17.
На евхаристический круг мотивов сориентировано и приведенное выше размышление Александра Дванова, в котором выстраивается семантическая цепочка: созревшее зерно – коммунизм – плоть тела: отдельное превращается в целое в процессе вкушения «созревшего зерна»18. Правда, образ хлеба окрашен в тона возвышенно-мистические в сознании уже «созревшего» Дванова. Отношение других персонажей романа, в том числе и повествователя (с учетом его «блуждающей» точки зрения19), да и самого Дванова на протяжении большей части его пути – вплоть до прибытия в Чевенгур – к хлебу, к еде как таковой совсем иное. Хлеб, как и пища вообще, воспринимаются коммунистами Платонова или равнодушно, или как нечто, разъединяющее людей, как то, что мешает им сознавать мир и творить. Поедание хлеба возле отхожего места («Возле отхожего места сидел старик и ел хлеб…») больше соответствует то и дело возникающей в недрах платоновского повествования идее богооставленности, заброшенности человечества в мироздании – «уединенного сиротства людей на земле», идее, существенно извращающей евхаристическую топику романа.
В травестированно-языческом обличье в «Чевенгуре» предстает не только Грааль-звезда («клепаный котел с сахарного завода»), но и сюжетный дублер «котла» – «железная кадушка неизвестного назначения» (230), служащая чевенгурцам в качестве посуды для варки «основного супа»: в кадушку каждый из чевенгурцев кидает всякую всячину – от близкорастущей травки и ночных комаров до телячего зада20. Вечером происходит совместное поедание варева – ритуал, в котором присутствует сниженный евхаристический аспект21.
Характерно, что упоминание о кадушке с «основным супом» вставлено в рассказ об изгнании из города полубуржуев и об их расстреле Киреем. В свою очередь, эпизод расстрела предварен рассказом об обходе их опустевших жилищ Чепурным: председатель чевенгурского ревкома находит в одном из домов бутылку церковного вина висанта22 и белые пышки, которые пытается скормить собаке Жучку, – явная травестия пасхального ритуала23.
Жучок отказывается от пасхальных пышек. И Граалю чевенгурцы не находят места в своем «первоначальном» городе. «Чаша Грааля» низвергается на песчаное дно оврага, которое приемлет бак, как «теплые материнские руки». В последних словах о баке можно при желании сделать акцент на смерти-рождении: ведь падение на дно, вниз у Платонова равнозначно воспарению ввысь, в небеса (бак вновь становится звездой). Но, так или иначе, чевенгурцы отвергают свою находку: непристойные намеки Жеева и деловое пояснение Векового для них оказываются более убедительными, чем донкихотское прозрение Чепурного.
Скатывание бака в овраг – провозвестие трагически-переломного момента в жизни чевенгурской коммуны – смерти ребенка женщины-бродяжки и тщетных попыток Чепурного воскресить умершего: «отживевшие» дети так и не заселят Чевенгур. Да и птицам Чепурный не может предложить ничего, кроме сора и табачных крошек, скопившихся у него в пустых карманах24.
Кроме того, в момент находки бака звездный дар не нужен чевенгурцам ни в практическом, ни в мистическом смысле: у них уже есть свой «Грааль» – солнце, неиссякаемый источник жизни, доставшийся им от уничтоженных буржуев и полубуржуев – обитателей Чевенгура-земного рая. «Из солнечной середины неба сочилось питание всем людям – как кровь из материнской пуповины…» (176): таким вспоминает Чевенгур своего детства Алексей Алексеевич Полюбезьев. В образе этого аллегорического персонажа гротескно слились плакатная актуальность (ленинские идеи кооперации) и тема хлеба как сакрального дара: «Прочитав о кооперации, Алексей Алексеевич подошел к иконе Николая Мирликийского и зажег лампаду своими ласковыми пшеничными руками… Перед ним открылась столбовая дорога святости, ведущая в божье государство житейского довольства и содружества» (177).
И вновь в сюжет о приходе Полюбезьева в Чевенгур с вестью о кооперации гротескно вторгается характерная для строя платоновского романа ретроспектива – рассказ о том, как Чепурный принял решение «ликвидировать плоть нетрудовых элементов» (181). Это решение у него возникает спонтанно именно в момент разговора с Полюбезьевым (во время предыдущей с ним встречи): фигура Полюбезьева по «обратной» ассоциации тут же вызывает у председателя чевенгурского ревкома стремление – «ликвидировать плоть…». Солнце же превращается коммунарами во «всемирного пролетария», избавляющего их от необходимости трудиться самим. «Всемирный пролетарий» узурпирует место Христа, так и не обретя атрибуты последнего – быть гарантом жизни вечной. Солнце Чевенгура оказывается «граалем» в его языческом бытовании – чашей-«самобранкой», в позднесредневековом рыцарском эпосе насыщающей Артура и его двор и исчезающей неведомо куда. Но, «работая над рощением пищи», оно тем самым участвует в «междоусобной суете людей, которая означает смертную необходимость есть» (218).
И когда энергетический источник постоянного прокорма начинает иссякать, чевенгурцы задумываются о его замене. Новым, «самодельным» Граалем для них становится ветряная мельница25: поначалу она появляется как «ветряк», некогда использовавшийся «буржуями» для подачи воды для поливки сада, каковой чевенгурцы, у которых не осталось даже спичек, пытаются приспособить для добывания огня механическим трением: «…Гопнер знал, как быть: нужно пустить без воды водяной насос… Насос в былое время качал воду…, и его вращала ветряная мельница…» (303). Кирей и Жеев также задумывают «пустить ветряную мельницу и намелить из разных созревших зерен мягкой муки; а из этой муки они думали испечь нежные жамки для болящего Якова Титыча» (310). Таким образом, на закате чевенгурского дня три основных «компонента», необходимых для изготовления хлеба причастия, – вода, огонь и созревшее зерно – объединяются вокруг образа мельницы, как это имеет место и в «Дон Кихоте», в котором путь Рыцаря Печального Образа символически соотнесен с участью зерна: его избивают – «молотят» и отправляют на жернова мистической мельницы, перемалывающий зерно Ветхого Завета в муку для хлеба новозаветного причастия. И постепенно горделивое самоутверждение рыцаря-избранника уступает место в сознании Дон Кихота идее жертвенного принятия своей смертной участи. Вот и Копенкин – герой «Чевенгура», наиболее схожий с Дон Кихотом внеш не и функционально26, – превращается из лихого конника-рубаки в смиренного пахаря: «Босой Копенкин поднимал степь, успевшую стать целиной, силою боевого коня. Он пахал не для своей пищи, а для будущего счастья другого человека, для Александра Дванова. Копенкин видел, что Дванов отощал в Чевенгуре…» (332).
В последней «части» романа27 Чевенгур обретает черты гротескного содружества одиноких людей-сирот, временно успокоившихся обретением своих товарищеских «половин». Возникновение такого содружества запечатлено в сцене вечерней трапезы «прочих» и коммунистов, во время которой происходит ритуальный обмен травяными жамками и печеной картошкой между Карчуком и Юшкой.
Но энтропийные силы неудержимо действуют внутри самого Чевенгура как замкнутого, отгороженного от остального мира пространства. И когда все в Чевенгуре начинает свидетельствовать о неизбежном конце, Дванов начинает думать «над устройством дешевой пролетарской пушки для сбережения Чевенгура» (352). Вместо «тающего солнца, работающего на небе, как скучный искусственный предмет» (там же), чевенгурцы должны получить метательное колесо, оружие, которое так легко обращается против того, кто его использует.
Непосредственным преддверием гибели коммуны является очередной ретроспективный эпизод – воспоминание Копенкина о некогда встреченном им на полях гражданской войны красноармейце, истекающем кровью от раны в паху. Копенкин ничем не помог умирающему и теперь оказывается охваченным тем же чувством вины («стыда жизни»), с каким уходит Саша Дванов на дно озера Мутево, так и не сумев воскресить своего отца.
Рана в паху28 – вовсе не бытовая, физиологическая подробность, а древний сакральный мотив – из ряда рассыпанных по тексту «Чевенгура» характерных мотивов и образов «граалевского мифа» (обозначим так метасюжет, объединяющий средневековые тексты о поисках Грааля) с его центральным героем – странствующим по миру «с открытым сердцем» простодушным юношей-сиротой Персевалем-Парцифалем. Именно в пах был ранен Король-Рыболов, хозяин замка и хранитель Грааля, где Персеваль впервые увидел вынос таинственного сосуда и копья, с наконечника которого капала кровь, как о том сообщается в незаконченной «Повести о Персевале» Кретьена де Труа (1181–1191). Задав вопрос о смысле происходящего и о назначении Грааля, Персеваль мог бы излечить Короля, но молодой рыцарь промолчал.