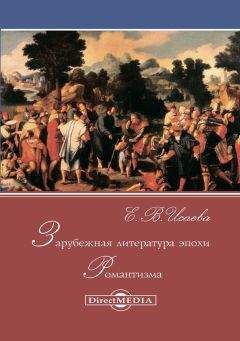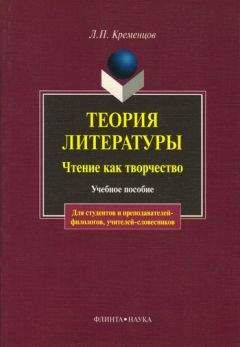Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика
Не только слово, но и высказывание, знак, идеология и ряд других слов в МФЯ и примыкающих статьях—не строгие научные термины, хотя они употребляются в контекстах, в которых читатели-лингвисты привыкли иметь дело с терминами. Сами авторы не столько знали, сколько как-то нащупывали их значение. Иногда какое-то слово постепенно превращается в термин или хотя бы приближается к термину. Так, тема– явно не термин в первой части книги, но в последней главе второй части это слово в большей степени становится термином. Вообще при движении от первой части к третьей подход в целом становится несколько строже.
К. Збинден считает, что в переводах Бахтин выглядит не столь систематичным мыслителем, как на самом деле.[356] Вероятно, это так. Но перевод увеличивает однозначность слов, в том числе терминов, а возможную игру на неоднозначности слов часто нельзя передать на другом языке. Легко найти или придумать эквивалент научного термина (К. Збинден не жалуется на трудности в переводе, например, словосочетания «абстрактный объективизм»). Но как переводить, когда одно слово употребляется в разных значениях, а тут же в некоторых из этих значений появляются и другие слова? Что-то всегда будет утеряно, что может вести, конечно, и к нарушению систематичности.
Нельзя, конечно, говорить, что в лингвистике такого не бывает даже в наши дни. Но такая размытость и нестрогость считается недостатком. А в круге Бахтина во многом мыслили иначе. Показательна проблема, разбираемая в статье Б. Вотье: Соссюр не раз сопоставлял лингвистику с математикой, что абсолютно противоположно подходу Бахтина и его круга.[357] Может быть, отчасти и поэтому отечественные лингвисты и не склонны обращаться к идеям МФЯ. А западным исследователям преодолеть психологический барьер легче: в переводах концепция всегда кажется более последовательной. Есть, конечно, и другая причина такого различия: книга тесно связана с интеллектуальной традицией немецкой науки XIX в. и начала XX в., у нас забытой среди лингвистов.
Впрочем, разные сочинения круга Бахтина могут восприниматься здесь по-разному. Оба варианта книги о Достоевском психологически воспринимались иначе. Второй ее вариант в 60-е гг. советским литературоведам казался чуть ли не образцом строгого научного анализа. В чем здесь дело? Конечно, степень строгости в литературоведении значительно ниже, чем в лингвистике; поэтому здесь не столь значима строгость терминологии. К тому же большей понятности этой книги (как и книги о Рабле) способствует значительное количество анализируемых примеров. Но все-таки эти книги выглядят более отделанными и внятными по сравнению с МФЯ. И лингвистические работы Бахтина 50-х гг., незаконченные и не вполне отделанные, выглядят более четкими, чем законченная и отданная в печать книга МФЯ. О «невразумительности» и «недостаточной полноте» концепции МФЯ, как мы помним, писал и Бахтин в 1961 г. Кожинову. Что-то, может быть, писалось в большой спешке. А может быть, была и другая причина. Хотя я стараюсь не касаться в этой главе проблем авторства, но, может быть, на стиле книги сказались стилистические особенности бывшего мистика и поэта Волошинова? Трудно сказать.
Стиль книги, все многочисленные «колыбели», «свирели» и «игралища», как в первой главе уже отмечалось, очень был не ко времени не только для марксистов, но и для большинства лингвистов той эпохи (как и нынешней). И это тоже способствовало отторжению книги. Сохраняется эта проблема и сейчас. И современный линт вист, просто отражая читательскую оценку, восклицает: «Тексты Бахтина трудно читать».[358]
Но надо ли считать неразработанность терминологии и нестро-гость ряда положений книги только ее недостатком? В МФЯ есть такое место: «Систематизируется обычно (если не исключительно) чужая мысль. Творцы – зачинатели новых идеологических течений – никогда не бывают формалистическими систематизаторами их. Нужно, чтобы прошла творческая эпоха, только тогда начинается формалистическое систематизаторство—дело наследников и эпигонов, чувствующих себя в обладании чужим и отзвучавшим словом» (293). МФЯ создавалась творцами (или творцом?). Богатство идей сопровождалось малой (может быть, слишком малой) склонно-стью к «систематизаторству». Изучение МФЯ с позиций «эпигонов-систематизаторов» только начинается, данная книга, вероятно, одна из ранних попыток такого рода.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПРОБЛЕМЫ МАРКСИЗМА В МФЯ
Из трех ключевых слов, вынесенных в название рассматриваемой книги, современная отечественная бахтинистика больше всего любит обсуждать марксизм, меньше говорят о философии и совсем мало – о языке. До сих пор я шел обратным путем: рассуждал о языке, лишь эпизодически касался философии и совсем не говорил о марксизме. Но вопрос связи МФЯ с этим учением все-таки надо рассмотреть. И дело даже не в том, что этот вопрос сейчас злободневен у нас и за рубежом. Очень важен аспект, который рассматривают редко, особенно в нашей стране. Книга появилась в период, когда в СССР достаточно часто и иногда весьма серьезно обсуждалась проблема построения марксистской лингвистики. Пусть авторы МФЯ стояли в стороне от споров на этот счет: упоминание ими мало существенной книги И. И. Презента в качестве «единственной марксистской работы, касающейся языка», косвенно свидетельствует об этом. Но появление книги находилось в ряду научных поисков в этом направлении; этот факт сказался и на оценке книги современниками. Поэтому надо рассмотреть МФЯ в ряду других советских работ тех лет, касавшихся построения марксистской лингвистики. Это важно и потому, что по вопросу о связи МФЯ с марксизмом у нас сложился ряд предрассудков и стереотипов, происходящих, как представляется, от слишком эмоционального подхода к проблеме (за рубежом оценки обычно объективнее). К главе примыкает четвертый и последний экскурс данной книги, в котором речь будет идти о развитии проблемы построения марксистского языкознания у нас после начала 30-х гг.
IV.1. Вопросы марксистской лингвистики в СССР 20-х – начала 30-х гг
IV. 1.1. Аспекты рассмотрения вопросов марксистской лингвистики
Прежде всего, нужно уточнить некоторые понятия. Говоря о марксизме в лингвистике, надо разграничить четыре разных аспекта данной проблемы, которые нередко смешивались и продолжают смешиваться. Первый аспект далее я буду стараться выносить за пределы исследования, хотя полностью от него отрешиться, конечно, трудно. Это политические взгляды того или иного лингвиста и отношение его к марксизму вне лингвистики. Такой аспект, разумеется, не может быть абсолютно не связан с остальными, но эта связь может и не быть прямой. В одну сторону она может вовсе отсутствовать: можно быть почитателем марксизма, принимать строй, основанный на марксизме, но никак не применять это учение в своей научной деятельности. Участник «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Д. Н. Кудрявский был (по крайней мере, в молодости) марксистом во взглядах на общество, что нашло отражение в его агитационных брошюрах, но как лингвист он был позитивистом, близким к младограмматизму. Даже тот факт, что Е. Д. Поливанов был комиссаром, агентом Коминтерна и, по его собственным воспоминаниям, преподавал исторический материализм на рабфаке в Ташкенте,[359] еще не определяет его лингвистические взгляды, хотя в данном случае связь, конечно, была.
Второй аспект, для нас очень важный, относится к тому, как увлечение того или иного лингвиста марксизмом или господство марксистской идеологии в обществе определяет круг интересов ученого, заставляет выбирать тот или иной подход, вовсе, может быть, и не марксистский в собственном смысле. В советском обществе этот аспект всегда был значим, особенно в ранний период. Как мы увидим дальше, общественная обстановка в СССР в 20—30-е гг. способствовала интересу к вопросам социального функционирования языка (не только к вопросам, теперь относимым к социолингвистике, но и, например, к вопросам причин изменений в языке). В 70-е и в начале 80-х гг. ситуация в СССР окажется совсем другой, большинство лингвистов станут вовсе игнорировать эту проблематику, но это будет уже в иную историческую эпоху.
Третий аспект относится к специфической пограничной области науки – социолингвистике, которая одновременно опирается и на лингвистическую и на социологическую теорию. А в социологии марксистская научная парадигма остается и по сей день одной из наиболее влиятельных. Обычно и сейчас то или иное отношение к этой парадигме (в том числе отрицательное и даже «нулевое») остается значимым, это относится и к социолингвистике. В седьмой главе в связи с неомарксистскими подходами в этой дисциплине, нередко вспоминающими МФЯ, об этом специально будет идти речь.
Наконец, последний аспект связан с проблемой существования собственно марксистской лингвистики. В 20—30-е гг. у нас этот аспект подчинял себе все остальные, хотя на практике он чаще подменялся вторым или третьим, а то и первым. Но сейчас он в отличие от остальных имеет лишь историческое значение.