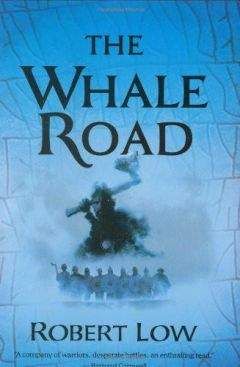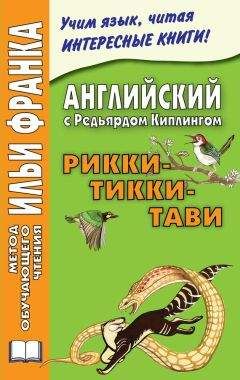Сергей Зенкин - Работы о теории. Статьи
Третий пример – психоанализ культуры (здесь не идет речи о клиническом психоанализе, в котором я недостаточно сведущ). Психоаналитический подход к культуре применяется в нашей стране, как и в других национальных традициях, но различаются преобладающие теоретические референции: в России ссылаются не столько на З. Фрейда, сколько на К.-Г. Юнга. Дело в том, что Фрейд на протяжении своей научной эволюции тяготел к структурному описанию фактов бессознательного, приближаясь к взгляду на них как на целостно-реляционную систему (эту тенденцию впоследствии развил Ж. Лакан), тогда как Юнг выявлял в психике и культуре самодостаточные архетипы – мотивы-символы, носители глубинно-сосредоточенного смысла.
Четвертый пример – карнавал. Как известно, эта тема стала окрыляющей новинкой в мировой теории культуры после выхода в свет книги М.М. Бахтина о Рабле. У самого Бахтина карнавал трактовался двойственно: с одной стороны, автор книги описывал его как структурный эффект инверсии ценностей – и в этом плане была оправданной и частично адекватной та семиотическая трактовка, которую дали ему Вяч. Вс. Иванов в нашей стране и Ю. Кристева во Франции. С другой стороны, Бахтин включил понятие карнавала в ценностную оппозицию официальной и народной культуры, где последняя являлась позитивно окрашенным членом; эта идеологическая оценка сложно коррелировала с общефилософским предпочтением, которое Бахтин отдавал «диалогическому» принципу перед «монологическим». Именно эта вторая сторона, как кажется, преобладает в массовом применении бахтинской идеи; в карнавале усматривают не столько механизм, посредством которого перерабатываются смыслы культуры, сколько сущностный факт, заслуживающий идеологической оценки.
Последний, пятый пример – собственно трактовка сакрального (впрочем, уже и предыдущий пример касался одной из сторон этого вопроса, так как карнавал есть не что иное, как период ритуального сакрального разгула). В данном случае придется говорить не о массовой практике, которой в нашей науке применительно к данной проблеме, пожалуй, и нет, а об одном достаточно значимом исследовании – это книга Александра Эткинда «Хлыст» (1998). Ее темой являются секты, то есть инициатические сакральные сообщества, которым свойственна особая плотность и интенсивность религиозной жизни; внешним выражением этой плотности и является «колдовская» сила, исходящая из их ритуалов. Именно такого рода сообщества – образцовые примеры имманентно-рассредоточенного смысла, который весь на виду и нигде конкретно, – служили предметом занятий парижского Коллежа социологии конца 1930-х годов, в котором участвовали Батай, Кайуа и (на стадии замысла) Моннеро. В книге Эткинда эти имена не упоминаются, и подход к проблеме сакрального совершенно иной – к чести автора, он четко сформулирован и методологически отрефлектирован. Изучаются не сами по себе сакральные сообщества, а то представление, которое могли иметь о них не принадлежавшие к ним русские писатели, эссеисты, авантюристы, революционеры и т. д. Иначе говоря, рассматривается не собственная природа сакрального, а его функционирование в культуре; инициатические секты выступают лишь как материал личного, в частности художественного, творчества. На них накладывается вторичная, чуждая им нарративная структура (триангулярная схема «слабого человека культуры» – «мудрого человека из народа» – «русской красавицы»), которая прослеживается во многих текстах о сектах, но не имеет отношения к реальному действию сакрального в самих сектах.
Системы имманентно-рассредоточенного, поверхностного смысла с трудом усваиваются как предмет науки во всем мире – в этом смысле Россия не составляет исключения, если не считать аномальной ситуации с «цивилизационным подходом» и психоанализом культуры (примеры 2 и 3). Например, такой объект рассредоточенного смысла, как человеческое тело, в большинстве случаев изучается в мировой науке не столько в своей собственной специфике, как культуропорождающая матрица, сколько через сеть смысловых решеток, категорий и практик, накладываемых на него, извне и вопреки ему, с целью подчинить его власти «цивилизации». Массовые гуманитарные исследования особенно обременены заботой о смысловой трансценденции. Думается, что преодоление этого бремени смысла составляет важную задачу современной методологической рефлексии.
Вещь не может обладать смыслом; но это не значит, что единственной альтернативой «вещественной» парадигме в изучении культурных фактов является герменевтическое «понимание» одним субъектом другого субъекта. Теоретическая мысль ХХ века упорно стремилась уловить и сконструировать негерменевтические смысловые объекты. Будущее гуманитарных наук зависит от нашего умения с ними работать.
2004
СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЕГО СМЫСЛ
Задача этой статьи – проанализировать одну теоретическую гипотезу, предложенную Полем Рикёром, и выяснить следствия, вытекающие из нее для гуманитарных наук. При этом придется рассматривать философские идеи Рикёра извне – не в собственно философском контексте, а в поисках другой интеллектуальной области (или областей), где данные идеи могут оказаться релевантными. В известном смысле подобный подход может быть назван герменевтическим, так как он ставит себе задачей не только выяснить авторские интенции, но и (возможно, даже в большей степени) распространить их на другие поля и тем самым сообщить им новый смысл, которого сам автор мог и не сознавать. «Понимать автора лучше, чем он мог понимать сам себя», – таков знаменитый призыв Шлейермахера; чтобы это сделать, мы должны дистанцироваться от авторской интеллектуальной позиции, занять такую точку зрения, которую он не имел в виду. Сам Поль Рикёр не раз подчеркивал важность дистанцирования в герменевтическом процессе, и его философия всегда была открыта для диалога с различными гуманитарными науками[20]; такой дистанцирующий жест можно осуществить и в обратном направлении, то есть с позиции гуманитарных наук, и это не будет противоречить методологическим убеждениям философа. В том же смысле ниже мы постараемся показать, что герменевтика должна не только находить, но и придавать смыслы.
Гипотеза[21], о которой идет речь, – это гипотеза о гомологии между текстом и социальным действием. Рикёр выдвинул ее в 1970-х годах, особенно в статье «Модель текста: осмысленное действие, рассматриваемое как текст» («Le modèle du texte: l’action sensée considérée comme un texte»), первоначально опубликованной по-английски в 1971 году, а затем перепечатанной по-французски в книге Рикёра «От текста к действию» (с. 183–211)[22]. В позднейших своих работах, в частности в двух больших трудах позднего периода – «Время и рассказ» и «Память, история, забвение», – он перешел к специфической трактовке этой гипотезы, сближая социальное действие не с текстом вообще, а с рассказом, нарративом, «историей»; однако его первоначальная идея «текста» по-прежнему остается продуктивной и допускает методологическую интерпретацию, не исследованную самим философом. Почему Рикёр оставил эту идею? Возможно, он не был уверен в том, что она верна; но еще вероятнее – потому, что она выходила за рамки его метода, поскольку не могла быть верифицирована в пределах чисто философской рефлексии и требовала «позитивных» научных исследований. В качестве философа Рикёр мог только наметить эту возможность, а затем передать ее для дальнейшего развития специалистам по общественным наукам.
Изложим вкратце ход рассуждений Рикёра. Прежде чем заявить о гомологии между текстом и социальным действием, философ конструирует так называемую «парадигму текста» (с. 184) путем двухэтапного диалектического движения: язык (в соссюровском смысле, то есть система языковых правил) реализуется в дискурсе (акте или процессе высказывания), а тот в свою очередь фиксируется в письменном тексте.
На первом этапе Рикёр противопоставляет язык и дискурс как абстрактное/конкретное: 1) язык виртуален, тогда как дискурс «всегда реализован во времени и в настоящем» (с. 184); 2) «языку не требуется никакого субъекта», тогда как «дискурс отсылает к говорящему посредством ряда шифтеров, таких как личные местоимения» (с. 184); 3) «знаки языка отсылают лишь к другим знакам внутри той же системы», а потому «язык обходится без мира», тогда как «дискурс – всегда о чем-то» (с. 184)[23]; 4) наконец, язык не имеет адресата, а у дискурса есть «другой – собеседник, к которому он обращен» (с. 185).
На втором этапе рассуждения конкретность, обретаемая дискурсом, вновь дистанцируется, диалектически отрицается в тексте, не зависимом от своего дискурсивного источника, от акта высказывания, которым он был произведен: 1) текст несет в себе не акт высказывания, а только значение этого высказывания, его семантическое содержание, включая его словесно выражаемую иллокутивную силу – «не событие говорения, а “говоримое” в речи» (с. 185); 2) он разделяет «интенцию автора и интенцию текста» – они в нем «перестают совпадать» (с. 187), так как значение более не поддерживается «всевозможными процессами, которыми поддерживается и делается удобопонятной устная речь, – интонацией, мимикой, жестами» (с. 187); 3) он преодолевает непосредственную ситуацию высказывания, его референцию нельзя указать, а тем самым он отсылает к миру как «совокупности референций, открываемых текстами» (с. 188)[24]; 4) он адресуется «неведомому, невидимому читателю» (с. 190), который не находится в отношении «лицом к лицу» с автором и в пределе может отождествляться с любым человеком, умеющим читать.